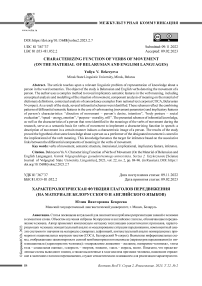Характерологическая функция глаголов передвижения (на материале белорусского и английского языков)
Автор: Бекреева Ю.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 2 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальной для лингвистики проблеме репрезентации знаний о человеке в семантике слова. Объектом изучения избраны белорусские и английские глаголы, обозначающие передвижение человека. Автор применяет комплексную методику экспликации семантических признаков, характеризующих человека: концептуальный анализ и моделирование ситуации передвижения, компонентный анализ системного значения на материале словарных дефиниций, контекстуальный анализ конкордансных примеров из национальных корпусов текстов (COCA, Белорусский N-corpus). Выявлены инференциальные схемы, отображающие закономерности семной комбинаторики интенсионала (параметров передвижения) и импликационала (характеристик человека): «направление движения - желание, намерение человека», «поза тела - социальная оценка», «скорость - энергия, эмоция», «цель - мораль, воля». Показано, что представленные схемы выводного знания, а также выделенные в ходе анализа признаки человека, нашедшие отражение в значениях глаголов передвижения, служат семантическим основанием для реализации характерологической функции в речи: описание передвижения определенным способом индуцирует образ личности человека. В результате исследования подтверждена авторская гипотеза о том, что знания о человеке как исполнителе обозначаемого передвижения закреплены в импликационале глагольного значения и в коммуникативных целях подлежат процедуре инференции на основе ассоциативных связей дифференциальных компонентов значения глаголов передвижения.
Глаголы передвижения, семантическая структура, интенсионал, импликационал, импликациональный признак, инференция
Короткий адрес: https://sciup.org/149143723
IDR: 149143723 | УДК: 81’367’37 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2023.2.7
Текст научной статьи Характерологическая функция глаголов передвижения (на материале белорусского и английского языков)
DOI:
Глаголы передвижения относятся к достаточно изученным лингвистическим объектам, однако вопрос о способах выражения знаний о человеке глаголами данной группы остается открытым. Актуальность исследования обусловлена ведущим антропоцентрическим подходом, в рамках которого, по словам Е.А. Поповой, «человек – это тот центр, через который проходят координаты, определяющие предмет, задачи, методы, ценностные ориентации современной лингвистики» [Попова, 2002, с. 69].
Рассматривая глагол как особый тип репрезентации знаний, Е.С. Кубрякова подчеркивает базисность концепта «движение» для частеречного значения: «глагол представляет собой в принципе нечто вроде метонимического обозначения тех когнитивных характеристик, которые были получены при наблюдении за разными видами движения и которые сами отразили репрезентацию и осмысление протекания движения во времени и в пространстве. Именно в этом заключается смысл определения глагола как процессуального признака, способного метонимически восстанавливать гораздо более сложные и развернутые структуры в нашей памяти, создавая каркас будущего предложения» [Кубрякова, 1992, с. 90].
Движение традиционно определяется как любое изменение положения тела, а перемещение и передвижение – только как поступательное изменение местоположения всего тела [Теньер, 1988, с. 298–299, 322– 325]. Термин «перемещение» в силу своих деривационных связей ассоциируется с понятием «место, местоположение». Это дает основание описывать семантику глаголов пе- ремещения преимущественно через пространственные характеристики. Кроме того, в группу глаголов перемещения включаются единицы, обозначающие перемещение не только субъекта (человека), но и объекта (например, везти, поднимать, переставлять), что делает термин «перемещение» неактуальным для исследования движения, носителем которого является человек. В качестве названия лексико-семантической группы глаголов, обозначающих изменение местоположения человека в пространстве, в контексте нашей работы целесообразно использование термина «передвижение», поскольку он указывает на центральный концептуальный элемент анализируемой ситуации – движение – и на его отношение с пространственными определителями.
Глаголы передвижения – это особый семантический пласт лексики, который отражает активную роль человека в познании мира: лишь в движении и осознанном, произвольном взаимодействии с объектами реальной действительности, он способен познавать мир и самого себя. Г. Миллер и Ф. Джонсон-Лэрд отмечают, что глаголы передвижения быстро усваиваются детьми и являются самыми характерными с точки зрения глагольности среди других глаголов: «the most characteristically verbal of all the verbs» [Miller, Johnson-Laird, 1976, p. 527]. Прототипическим субъектом абсолютного большинства лексикализованных ситуаций передвижения во всех языках выступает человек. В структуре полисемантичных глаголов, обозначающих передвижение иных сущностей (например, движение потока воды, ветра, животных), обязательно представлен как минимум один лексико-семантический вариант «передвижение человека».
Поскольку человек является центральным участником ситуации, представления о нем находят отражение в компонентах значения глаголов передвижения. В исследованиях, посвященных семантике этих глаголов, указание на человека ограничивается общим компонентом «одушевленный субъект» [Faber, Mairal, 1999, p. 96; Fillmore, Baker, 2010; Talmy, 2000], отдельные характеристики, например, эмоции, определяются как дифференциальный компонент «манера, способ движения» [Амирова, Храмова, 2020; Поддубный, 2002; Кошелев, 1996].
Гипотеза нашего исследования состоит в том, что знания о человеке как об исполнителе обозначаемого передвижения закреплены в импликационале глагольного значения и в коммуникативных целях подлежат процедуре инференции на основе ассоциативных связей дифференциальных компонентов интенси-онала. Таким образом, в задачу предпринимаемого исследования входит обнаружение свойств, присущих человеку, – его атрибутов – в семантике глаголов передвижения. С одной стороны, термин «атрибут» коррелирует с философским пониманием характеризующего свойства, «отчуждаемого» от субстанции [Философский словарь, 1991, с. 26]. Атрибутами человека являются те характерные свойства, которые выделяют его из ряда других сущностей мира: сознание, интеллект, воля, чувства, эмоции, моральные и нравственные ценности и т. п. Вслед за Е.С. Кубряковой [Кубрякова, 1992, с. 90], мы устанавливаем механизм метонимии в значении глагола: наличие атрибута имплицирует его предполагаемого носителя, но сам носитель не объективирован. С другой стороны, термин «атрибут» подчеркивает специфику предикации: человек, называемый именным актантом при глаголе-предикате, наделяется характеристиками, которые предусмотрены его функцией или ролью в обозначаемой ситуации передвижения. Таким образом, присутствие в структуре значения глагола передвижения семантических признаков, отражающих атрибуты человека (далее – атрибутных признаков), обусловливает характерологическую функцию глагола в речи.
Наиболее ярко особенности репрезентации человека в значениях лексических еди- ниц обнаруживаются в сопоставлении лексико-семантических систем языков, поэтому в качестве материала исследования избраны глаголы передвижения в английском и белорусском языках.
Материал и методы
В определении структуры и состава значения глаголов передвижения можно выделить три основные стратегии:
-
1) концептуальное моделирование ситуации с вычленением фрагментов и участников передвижения;
-
2) дефиниционный анализ с выделением компонентов смысла, категориальных и дифференциальных сем;
-
3) синтагматический анализ с определением семантических согласований и валентностей (семантических ролей, актантных позиций и т. д.).
Концептуальное моделирование основано на конструировании обобщенной схемы ситуации и анализе значения глагола в аспекте инкорпорации и специализации выделенных фрагментов и/или участников. Например, ставшая классической модель движения, предложенная Л. Тэлми, включает движущийся объект – фигуру (Figure), недвижимый объект – фон (Ground), относительно которого фиксируется смена местоположения фигуры, движение (Motion) и путь (Path), который представляет собой пространственно-геометрический комплекс, определяющий направление движения фигуры относительно фона [Talmy, 2000]. Вербализация модели демонстрируется предложениями, в которых каждый элемент модели выражен эксплицитно. Например: John Фигура ran Движение into Путь the room Фон ‘Джон вбежал в комнату’.
Вместе с тем и на материале глагольных лексем в рамках лексико-семантической группы «передвижение» в одном языке, и на материале глаголов передвижения в разных языках обнаружено, что, с одной стороны, определенные компоненты модели инкорпорированы в значении глагола, с другой – в модели не отражены некоторые смысловые компоненты, которые устанавливаются при анализе глагольного значения. В частности, английский глагол run и его русский эквивалент вбежал в представленном примере включают в значение компонент «скорость», но только русский глагол инкорпорирует путь «внутрь». М. Раппапорт-Ховав и Б. Левин рассматривают инкорпорацию компонентов ситуации передвижения в глагольном значении в аспекте ограничений лексикализации: в корневой морфеме глагола может быть инкорпорирован только один компонент ситуации передвижения – манера движения (например, walk ‘передвигаться пешком’) или результат (например, come ‘приходить, прибывать’) [Rappaport-Hovav, Levin, 2010, p. 26–28].
На основе типологического анализа глаголов передвижения по концептуальной модели «Фигура – Движение – Путь – Фон» Л. Тэл-ми приходит к выводу о релевантности выделения трех основных моделей организации глагольного значения:
-
– инкорпорация способа движения (например, crawl ‘ползти’) или причины движения ( abscond ‘сбегать, скрываться’);
-
– инкорпорация направления движения ( advance ‘двигаться вперед’);
-
– инкорпорация движущейся фигуры ( rain ‘(о дожде) идти, литься’) [Talmy, 2000].
Даже с указанным дополнением, концептуальная модель не отображает связи между способом, причиной, направлением движения и типом движущейся фигуры или свойствами пути. Человек в предложенной концептуальной модели представлен либо как наблюдатель, находящийся за рамками концептуализируемого события, либо как категориальный тип фигуры.
Моделирование концептуальной структуры ситуации в виде фрейма сопровождается анализом предложений с целью определения синтаксически выраженных компонентов ситуации [Fillmore, Baker, 2010]. При таком подходе семантическая структура значения глагола-предиката сводится (с некоторыми оговорками) к семантической структуре предложения. Во-первых, в отличие от предложения, полученная фреймовая модель представлена в значении глагола «в свернутом виде» [Кацнельсон, 2002, с. 83]. Во-вторых, выделяются ядерные компоненты, которые всегда находят выражение при употреблении глагола в предложении, и периферийные компоненты, которые определяют факультативную семантико- грамматическую сочетаемость глагола в предложении [Fillmore, Baker, 2010].
Компонентный анализ значения глаголов передвижения позволяет установить значимые для носителей языка элементы смысла [Кузнецов, 2015, с. 163–164], которые участвуют в вербальной категоризации (номинации словом фрагмента действительности) и дифференциации вариативных ситуаций на лексическом уровне (например, какие ситуации можно обозначить глаголом бежать , а какие – глаголом идти ). «Идея перемещения в пространстве легко комбинируется с другими совместимыми с движением характеристиками: способом движения (идти, ползти), средой перемещения (идти, плыть), скоростью (бежать, мчаться), направления, пределов, каузации движения и другими разнообразными сопутствующими характеристиками, взятыми порознь или совместно одна с другой» [Никитин, 2007, с. 426]. Как показано Е.И. Булгак, компоненты «среда», «скорость», «направление», «цель», «причина», «способ движения» устанавливаются на парадигматическом уровне при сопоставлении системных лексических значений глаголов лексико-семантической группы «передвижение» [Булгак, 1972].
В терминах стохастической модели значения М.В. Никитина категориальные семантические признаки, по которым слова объединяются в лексические группы, и дифференциальные семантические признаки, которые разграничивают значения слов внутри лексической группы, формируют интенсионал глагольного значения. Семантические признаки, выводимые на основе ассоциативных и логических связей и актуализируемые при употреблении слов с определенной долей вероятности, относятся к импликационалу [Никитин, 1988, с. 164]. Вопрос о разграничении семантических признаков передвижения относительно интенсионала и импликационала остается открытым.
В качестве примера реализации компонентного анализа приведем исследование семантической структуры глаголов с общим значением «манера передвижения» в английском и русском языках [Амирова, Храмова, 2020]. На основе анализа дефиниций синонимического ряда глагола walk ‘идти’ и соответствующих русскоязычных эквивалентов
О.Г. Амирова и А.В. Храмова выделили семантические компоненты разных типов: интегральную сему «самостоятельное передвижение субъекта в пространстве», дифференциальные семантические признаки «скорость передвижения», «цель передвижения», «состояние субъекта при передвижении». Последний компонент определялся авторами гипотетически и верифицировался в ходе эксперимента с носителями языка, направленного на оценку семантической согласованности глагола, обозначающего определенный способ передвижения, и эксплицированного указания на эмоциональное состояние субъекта или цель передвижения. Например, исследователи полагают, что в значении глагола stride ‘ходить широким, уверенным шагом’ присутствует дифференциальный признак «уверенность субъекта при передвижении». Данные эксперимента, проведенного авторами статьи, подтвердили распознавание признака «уверенность» в значении глагола, употребленного в развернутом контексте: He began to stride up and down the room again, with his confident suggestion of being right ‘Он снова начал ходить взад-вперед по комнате, уверенно намекая на свою правоту’.
Выделяемый на уровне дефиниции компонент «состояние субъекта», уточняющий манеру передвижения, определяется нами как семантический репрезентант атрибута человека в ситуации передвижения, атрибутный признак. Однако необходимо отметить, что семантические признаки данного типа имеют вероятностный характер, то есть являются скорее импликациональными, чем дифференциальными. Во-первых, в дефиниции конкретизирован тип шага. Оппозиция «широкий шаг – маленький шаг» на парадигматическом уровне дифференцирует глаголы stride, pace, leap и scuttle, toddle, hop. Во-вторых, экспериментальные данные, приведенные в статье О.Г. Амировой и А.В. Храмовой, показывают, что информанты не были едины в своих оценках релевантности признака. В-третьих, определение словарного конкретизатора «уверенным шагом» как репрезентанта семантического компонента «состояние субъекта» предполагает инференциальный вывод на основе реконструкции метонимической ассоциации: уверенный – признак-атрибут челове- ка, который перенесен на результативный этап движения (шаг).
Несмотря на то, что словарные дефиниции содержат богатый материал для семасиологического моделирования, далеко не все компоненты значения находят эксплицитное выражение, в частности, категория субъекта «человек» практически не отражается в словарных толкованиях как конкретизатор глаголов передвижения. Способ определения значения, избранный лексикографами (например, определение через синонимы или иллюстрацию употребления слова в предложении), может затруднить компонентный анализ.
Синтагматический анализ на материале контекстов употребления глаголов передвижения позволяет выявить актуализируемые компоненты значения. Основной тезис такого подхода к определению значения состоит в наличии семантического согласования между словами в синтагме: синтагматическая связь слов обусловлена общими семантическими признаками [Влавацкая, 2010]. Компоненты значения, обеспечивающие сочетаемость глагола, могут определяться на макроуровне как соответствующие элементы когнитивной модели или пропозиции (примером являются фреймовые модели значения [Fillmore, Baker, 2010]), и на микроуровне как совокупность семантических признаков, конкретизирующих категории участников и параметры передвижения [Acedo-Matellan, Mateu, p. 117]. На основе абстрагирования от конкретного лексико-семантического варианта, сопоставления и обобщения семантических признаков, выделенных для членов лексической группы, устанавливается «семантический архетип» ситуации передвижения [Копорская, 1996, с. 113].
Изменения в значении глагола и, как результаты таких изменений, его вторичные лексико-семантические варианты, подтверждаются сменой семантических категорий и позиций сочетающихся актантов и сирконстантов. Например, во вторичном лексико-семантическом варианте глагола run актант, обозначающий путь, выдвигается в позицию субъекта, актант со значением направления является обязательным компонентом конструкции: The road runs west ‘Дорога бежит на запад’.
Иллюстрацией успешного применения стратегии синтагматического анализа для определения компонентов значения глаголов передвижения является исследование бесприставочных древнерусских глаголов движения, проведенного О.А. Горбань и представленного в коллективной монографии «Семантика древнерусского глагола: синхронно-диахронический аспект» [Семантика..., 2009, с. 99–136]. Обращаясь к анализу функционирования глаголов движения в древнерусских текстах, автор определяеисемный состав в структурах глаголов, а также типы модуляционных семантических изменений при сохранении категориально-лексической семы «перемещение в пространстве» и деривационных семантических изменений при замещении категориальнолексической семы и переходе глагола в другую лексико-семантическую группу.
Для определения особенностей репрезентации человека в ситуации передвижения и выявления атрибутных признаков в структуре значения английских и белорусских глаголов передвижения была избрана комплексная методика, интегрирующая три указанные стратегии моделирования лексического значения.
Дефиниции глаголов передвижения, представленные в лексикографических источниках (Freedictionary. com; Slounik.org), послужили исходным материалом семасиологического анализа. Многоступенчатый компонентный анализ конкретизаторов словарной дефиниции сопровождался распределением выявленных признаков относительно концептуальных участников ситуации передвижения, в частности устанавливались признаки, ориентированные на концептосферу «человек», которая представлена в обобщенной модели передвижения как концептуальный участник «Фигура движения». Метонимический способ репрезентации человека как основного участника ситуации передвижения в значении глагола предусматривает установку схем инференции имплика-циональных признаков. В дополнение к дефи-ниционному анализу по толковым словарям использовался метод челночного перевода, позволивший выявить сходства и различия в семном составе той части значения, которая отражает знания о человеке в ситуации передвижения в белорусском и английском глагольном лексиконе.
Вероятностный характер импликацио-нальных признаков допускает наличие вари- антного ряда и разной степени актуализации признака при функционировании глагола в речи. Примеры употребления глаголов в синтагмах с субъектом категории «человек», извлеченные из национальных текстовых корпусов (BelNC; COCA), послужили материалом для синтагматического анализа, направленного на обнаружение актуализации признака в условиях контекста. При этом в качестве подтверждающего маркера для актуализированного признака, характеризующего человека, служит эксплицитное выражение аналогичного свойства человека или дублирование аналогичного семантического признака в других лексических единицах в ближайшем контексте. В качестве опровергающего маркера выступает эксплицитное выражение противоположного по смыслу признака человека в ближайшем контексте. В немаркированных контекстах факт возможности встраивания выявленного атрибутного признака в семантическую структуру высказывания без искажения смысла рассматривается как случай имплицитной характеризации человека. Актуализация атрибутного признака с частотой 50 % и выше с учетом контекстуальных уточнителей, ограничивающих лексико-семантический вариант глагола-предиката, подтверждает наличие данного признака в структуре глагольного импликационала.
Результаты и обсуждение
Проведенный анализ позволил установить некоторые общие закономерности семной комбинаторики интенсионала и импликационала, которые составляют семантическое основание для реализации характерологической функции глаголов передвижения в речи. Импликацио-нальные признаки, отражающие характер человека, устанавливаются на базе ассоциативной связи определенных дифференциальных компонентов значения глаголов передвижения. Таким образом, можно выделить следующие схемы инференции атрибутов человека в значении глаголов передвижения.
-
1. «Направление движения – желание, намерение человека». Глаголы направленного движения индуцируют атрибутный признак обобщенного типа «намерение, желание», который может преобразовывать-
- ся в импликациональные признаки «инициативный», «решительный», «целеустремленный» при конкретизации направления «вперед». Такая импликация обнаруживается в семантике базовых глаголов направленного передвижения ісці и go, что объясняет целый ряд их функциональных особенностей. Так, и для белорусского, и для английского глагола характерна комплементация с другим глаголом действия в повелительных конструкциях, например: ідзі зрабі штосьці, go get something. Белорусский приставочный дериват пайсці употребляется в аналогичных сочетаниях и в повествовательных предложениях (пайcці зрабіць штосьці) как переводной эквивалент сочетаний go с инфинитивной формой другого глагола (go to do something). Второй глагол в таких конструкциях выражает действие-цель.
-
2. «Поза тела – социальная оценка». Компонент «способ передвижения» может получать конкретизацию через определение особой позы при движении. В глагольных дефинициях обнаруживаются два типа конкре-тизаторов: описание положения функциональных частей тела (рук, ног) относительно поверхности пути и прямая оценка манеры движения с помощью характеристик, свойственных человеку. Импликациональные атрибутные признаки выводятся на базе сложившихся в социуме ритуалов для демонстрации отношения к людям: визуально уменьшать тело (склонять голову, плечи, становиться на колени и т. п.) для выражения подчинения, уважения к тому, кто считается выше по социальному статусу; визуально увеличивать тело (расправлять плечи, вытягиваться, поднимать высоко голову) для выражения собственного превосходства или смелости. В процедуре ин-ференциального вывода существенную роль играют причинно-следственные связи: если положение тела при движении оправдано характеристиками пути и среды передвижения (например, узкий проход, наличие препятствия) в значении глаголов передвижения ползком ка-раскацца , скараскацца , прапаўзці , дапаўзці , далезці , залезці , прысунуцца и английских creep , crawl , worm могут актуализироваться признаки «ловкий», «гибкий» (пример (2)). Актуализация признака «усилие», ассоциативно связанного с наличием препятствий или неблагоприятных характеристик поверхности пути движения, индуцирует атрибутные признаки положительной оценки «упорный», «решительный» (пример (3)). Если признак «усилие» деактуализирован в признак «без труда, слишком легко» в контексте условий и пути
Атрибут «намерение, желание», имплицированный в первичном лексико-семантическом варианте глагола go , получает актуализацию и преобразуется в интенсиональный компонент значения в грамматической конструкции to be going to ‘намереваться, собираться (что-то сделать)’. Признак «намерение, инициатива» сохраняется в структуре значения глаголов ісці , пайсці при семантической деривации, в результате которой категориальный признак «движение» заменяется на признак «изменение» или «действие», например: ісці на карысць ‘становиться корыстным, делать выбор в пользу корыстного желания’, ісці на ахвяру ‘добровольно жертвовать собой, становиться жертвой’, ісці ў на-вуку ‘становится ученым, выбирать науку как профессию’. Значение глагола ісці в последнем примере соответствует английскому фразовому глаголу go in for , который употребляется для выражения добровольного выбора занятия, профессии : go in for science.
В белорусском лексиконе представлены глаголы, производные от существительного накірунак ‘направление’ – кіравацца , накіра-вацца . В значении данных глаголов имплика-циональный признак «целеустремленный» совмещен с признаком «рациональный», «сознательный» на основе логической инференции: для осознанного выбора направления необходимо обладать способностью рационального мышления:
(1) У вас, сялян, усё кіруюцца праўду знайсці ўва ўсім ‘У вас, крестьян, всё стремятся правду найти во всём’ (М. Гарэцкі, BelNC).
Синонимичный глагол направленного передвижения падацца имплицирует выбор направления, обусловленный внешним воздействием или осознанной потребностью человека, поэтому в контекстах употребления эксплицитно или имплицитно представлена причина движения. Устойчивое словосочетание куда падацца имплицирует неприкаянность, осознание потребности в действии, но неумение сделать выбор.
передвижения актуализацию получают признаки отрицательной оценки «наглый», «настырный», «коварный» (пример (4)).
-
(2) Яны адважна рынуліся ў багавінне. Трэба аддаць справядлівасць нашым хлопцам: паказалі яны сябе тут сапраўднымі героямі. Праціскаліся, караскаліся, скакалі з купіны на купіну, загразалі, выцягвалі адзін аднаго, пакуль... зноў не ўбачылі возера! ‘Они отважно ринулись в водоросли. Надо отдать должное нашим парням: показали они себя здесь настоящими героями. Протискивались, карабкались, скакали с кочки на кочку, вязли, вытягивали друг друга, пока... снова не увидели озеро!’ (Я. Маўр, BelNC);
-
(3) Жыццё мяне круціла на ўсе бакі: падаў, караскаўся і зноў уставаў ‘Жизнь меня крутила во все стороны: падал, карабкался и снова вставал’ (С. Грахоўскі, BelNC);
-
(4) Янук Качарга, сын вёскі Няўродаўкі, шчас-цем пралез у вялікі горад, папаў на службу і застаў-ся жыць назаўсёды ‘Янук Кочерга, сын деревни Не-вродовки, удачно пролез в большой город, попал на службу и остался жить навсегда’ (У. Галубок, BelNC).
В английском языке выделяется глагол worm ‘передвигаться как червь’, производный по конверсии от существительного. Морфосемантическая инкорпорация образа червя обусловливает высокий характерологический потенциал глагола, который реализуется при описании передвижения человека как в физическом (пример (5)), так и в нефизическом (пример (6)) пространствах.
-
(5) He wormed his way through dirt ‘Он пробрался через грязь’ (Ophelia, COCA).
-
(6) They say that Jews wormed their way, in their words, into control over the US government ‘Они говорят, что евреи пробрались, по их словам, к контролю над правительством США’ (Eli Saslow, COCA).
Компонент «манера движения» в значениях английских глаголов crawl и creep ‘ползти’ совмещен с компонентом скорости «медленно». При выдвижении признака «медленно» атрибутные признаки, ассоциируемые с положением тела при движении, как правило, не актуализируются. В значение глагола creep может вводиться целевой компонент «остаться незамеченным для других», который индуцирует атрибутные признаки «осторожный», «коварный». Глагол tiptoe ‘передвигаться на цыпочках’ включает целевой признак «остаться незамеченным, чтобы не потревожить других», который не связан с импликацией отрицательной оценки.
В ряде английских глаголов представлены компоненты, которые являются результатом субъективной оценки позы тела при движении. Образ действия оказывается метонимически связанным с характером его исполнителя. Например, в словарных дефинициях глагола strut ‘ходить с важным видом’ дается описание стереотипной позы «as with the chest thrown out» ‘будто с выпяченной грудью’ и ее оценочная интерпретация «in a pompous manner» ‘в напыщенной манере’ (Freedictionary. com).
В белорусском языке глаголов, обозначающих передвижение с важным, напыщенным, самодовольным видом, не выявлено. Однако достаточно регулярно встречаются сочетания глагола передвижения с характеризующими именами в качестве эксплицированного компонента «манера движения», например хадзіць гогалем / арлом / фертам .
Передвижение, сопровождаемое серией смены позиции тела относительно поверхности пути в направлении «вверх-вниз», ассоциативно связано с энергичностью и приподнятым настроением. Глаголы, обозначающие такой тип движения, frisk , gambol , caper , frolic , hop , скакаць , прыскокваць , га-рэзаваць , гасаць , имплицируют атрибуты «радость», «воодушевление» или «дурость», «легкомыслие» (если актуализируется ассоциация с нерациональной, неуместной затратой энергии).
-
(7) The woman laughed again, and arms spread wide she spun and capered about the square with girlish glee ‘Женщина снова засмеялась и, широко раскинув руки, закружилась и запрыгала по площади с девичьим задором’ (The Last Decree of Ban-Fayan, COCA);
-
(8) А сама Лідачка жартуе, гарэзуе, як дзіцянё ‘А сама Лидочка шутит, резвится, как ребенок’ (М. Зарэцкі, ВеlNC).
Дифференциальный признак, определяющий тип шага, ассоциативно связан с параметрами размера и веса. Так, «маленький, легкий шаг» имплицирует атрибутный признак предполагаемого физического возраста (ма- ленький, юный), параметров физического тела (маленький рост или легкий вес), социального статуса (подчиненный, слабый) или интеллектуальных способностей (легкомысленный). Подобные атрибутные признаки обнаруживаются в импликационале английских глаголов scuttle ‘бежать мелкими шагами’, toddle ‘идти маленькими шажками (как ребенок)’, mince ‘семенить’. В белорусском языке отдельных глагольных лексем для аналогичных значений не выявлено. «Тяжелый шаг» соотносится с импликацией параметров тела (большой, грузный), «душевной» тяжести, усталости. Данные атрибутные признаки присутствуют в импликационале английских глаголов tread ‘идти, тяжело ступая’, lumber ‘передвигаться тяжело, неповоротливо’.
В значении глаголов trudge , toil ‘тащиться’, shuffle ‘волочить ноги’, plod ‘брести’ и цягнуцца ‘тащиться’, плесціся ‘плестись’, брысці ‘брести’имплицированы признаки «усталый», «подавленный» на основе инференции по определенной позе в процессе движения: спина согнута, ноги слабо отрываются от земли, руки свисают, голова может быть опущена, шаг тяжелый (примеры (9), (10)). Белорусский глагол брысці включает импликацио-нальный признак «незнание, неполная осведомленность о пути следования» (пример (11)). Конкретизация позы тела в значении вышеперечисленных глаголов дополняется конкретизированным признаком скорости «медленно»:
-
(9) Падышоў насільшчык з запэцканым чама-данам, за ім плялася худая, замораная кабета ‘Подошел носильщик с заляпанным чемоданом, за ним плелась худая, заморенная женщина’ (А. Мрый, BelNC);
-
(10) With a sinking feeling, I trudged up to my room and swiped my key through the lock ‘С тяжелым чувством я поплелся в свою комнату и провел ключом-картой по замку’ (C. Doctorow, COCA);
-
(11) Жывуць, брыдуць, а дзе – не знаюць ‘Живут, бредут, а где – не знают’ (Я. Колас, BelNC).
-
3. «Скорость – энергия, эмоция». Компонент скорости, выраженный в семантических признаках «быстро», «медленно», связан с имп-ликациональными атрибутами «энергия», «эмоция». Медленная скорость ассоциативно связана с угнетенным эмоциональным состоянием, бессилием, усталостью. Признак скорости «быстро», особенно в комбинации с признаками направления «вперед» или «к конечному пункту», индуцирует атрибутные признаки «энергичный», «воодушевленный», «настойчивый», «решительный». Два последних признака репрезентируют атрибут «воля», импликация которого связана с совмещением целевого компонента и компонента направления. Примером такой комбинаторики является структура значения белорусского глагола рынуцца . Его английский переводной эквивалент dart ‘побежать, метнуться, ринуться быстро и резко к чему-л. или от чего-л.’ имеет более свободную сочетаемость по признаку направления и соответственно демонстрирует более широкую вариативность в импликации эмоций исполнителя движения, например, признак «воодушевленный» (пример (12)) или признак «злой» (пример (13)).
Передвижение с неустойчивой координацией тела ассоциативно связано с характеристиками «слабый» или «нездоровый». Данный атрибутный признак включен в импликацио-нал английских глаголов toddle , totter , hobble ‘ковылять’, limp ‘хромать’, stagger ‘идти, шатаясь’ и белорусских глаголов кульгаць
‘хромать’, клымаць ‘ковылять’, шкандыбаць ‘шкандыбать’.
-
(12) Cissney mimed a salute, then laughed, and darted away ‘Циссни изобразил приветствие, затем рассмеялся и умчался прочь’ (Death is Part of the Process, СОСА);
-
(13) Commander darted past the arms room, hissing curses under his breath (From a certain point of view, Star Wars, СОСА),‘Командир пронесся мимо оружейной, шипя проклятия себе под нос’.
Признаки «внезапно, резко» и «быстро» имплицируют аффективное эмоциональное состояние человека в движении, конкретизация которого зависит от коммуникативной ситуации. Например, белорусский глагол кідацца ( кінуцца ) в примере (14) актуализирует вероятностную характеристику человека «агрессивный», в примере (15) аффективное состояние уточняется как «горе, истерика».
-
(14) Першыя часы быў надта злосны. Пачаў бушаваць, кідаўся да маткі, але яна яго ізноў супа-коіла ‘Первое время был очень злой. Начал бушевать, бросался на мать, но она его снова успокоила’ (Я. Колас, BelNC);
-
(15) Заламаўшы рукі, маці разрываючым душу крыкам галасіла і прычытвала. Як непрытом-ная, кідалася яна ў ваду, яе трымалі мужчыны ‘Заламывая руки, мать истошным криком голосила и причитала. Как исступленная, кидалась в воду, ее держали мужчины’ (Я. Колас, BelNC).
4. «Цель – мораль, воля».
Компонент направления в семантической структуре глаголов передвижения служит для указания на продуктивную цель. В значении отдельных глаголов представлены дифференциальные признаки, отражающие корыстную цель:
гнацца
,
chase
‘преследовать (чтобы получить что-л.)’,
красціся
‘красться’ (общий корень с глаголом красть),
prowl
‘преследовать (как хищник)’. Данные глаголы включают в импликационал атрибутные признаки «коварный», «алчный», «хитрый» или «упорный», «решительный». Актуализация положительной или отрицательной оценки зависит от контекстуальных уточнителей обстоятельств передвижения. Например, в следующем предложении актуализирован отрицательный признак «жадный, алчный»:
Комбинация семантических признаков «быстро», «прочь» вводит в импликациональ-ную часть значения атрибутные признаки «трусливый» или «слабый, слабовольный». Такая комбинация представлена в семантике глаголов збягаць , збегчы и flee . Актуализация конкретного признака из вероятностного ряда обусловлена контекстом; при эксплицитном выражении причины, которая оценивается как разумный мотив для описанного действия, естественная реакция, атрибут «трусость» нивелируется, например збегчы з-пад абстрэлу , flee from war .
Как отмечает Н.Д. Арутюнова, «суждение о причинных отношениях нуждается в верификации, суждение о цели – в реализации. Человек ищет существующие в реальном мире причины явлений, но создает возможный мир желательных для него положений дел» [Арутюнова, 1992, с. 15].
-
(16) Надта за хлебам народ гоніцца, а хлеба дастане, дык і за крамнай вопраткай, і за ляксава-нымі ботамі гоніцца, і ўсё маркоціцца ‘Cлишком народ за хлебом гоняется, а когда достанет хлеб, таки за магазинной одеждой, и за начищенными сапогами гоняется и все печалится’ (Ф. Багушэвіч, BelNC).
В двух языках выделяется группа глаголов с дифференциальным компонентом «непродуктивная цель». В дефинициях английских глаголов wander , roam , meander ‘бродить’ данный компонент выражен признаком «без определенной цели»: в имплика-ционал данных глаголов включены признаки «праздный», «ленивый». В белорусских дефинициях представлены дополнительные конк-ретизаторы «без работы», «без пользы»: бад-зяцца ‘бродить, мыкаться’, швэндацца ‘шляться, околачиваться’, совацца ‘слоняться’, шатацца ‘шататься’, шлындаць ‘шлён-дать’, шлындацца ‘болтаться, шататься’, туляцца ‘скитаться’. В значениях указанных глаголов можно выделить импликациональные атрибутные признаки «безынициативный», «неспособный», «ленивый», «бесхарактерный», «нерешительный». Признаки непродуктивной или неопределенной цели комбинируются с признаками направления «туда-сюда», «в неопределенном направлении».
Как отмечают исследователи, глаголам с дифференциальным компонентом «цель» свойственна интерпретационность и субъективность значения [Левонтина, Шмелев, 2005, с. 78]. Такая особенность семантики, на наш взгляд, обусловлена наличием имп-ликациональных атрибутных признаков, отражающих характеристики человека на основе моральных норм, которые могут варьироваться в зависимости от культуры и индивидуального опыта.
Заключение
Антропоцентричность семантики глаголов передвижения проявляется в особенностях отбора и акцентирования определенных семантических компонентов на основе мысленного представления ситуации передвижения, которое включает конструирование схематического образа фигуры в пространстве и «сканирование» движущейся фигуры относительно неподвижного фона. Человек, объективированный как фигура на фоне, в разных физических и эмоциональных состояниях, с разными намерениями, желаниями, морально-этическими установками, интеллектуальными способностями передвигается по-разному. Концептуальная связь между типом пе- редвижения (передвижение определенным способом, в определенной среде, в определенном направлении, с определенной скоростью и т. д.) и свойствами человека, который способен осуществлять означенное передвижение, находят отражение в значениях глаголов лексичической группы «передвижение». Семантические признаки, характеризующие человека, представляют собой выводное знание и относятся к импликациональной части глагольного значения. Схемы «выведения» имп-ликациональных признаков на основе содержания дифференциальных компонентов значения и семантико-синтагматических согласований глагола с актантами и сирконстантами в предложении объясняют концептуальную связь «тип движения – характер человека» и обосновывают характерологическую функцию глаголов передвижения, которую можно рассматривать в аспекте речепроизводства (подбор глаголов передвижения для создания образа человека, о котором идет речь) и в аспекте речевосприятия (формирование представления о личности человека на основе словесного описания его передвижения).
Список литературы Характерологическая функция глаголов передвижения (на материале белорусского и английского языков)
- Амирова О. Г., Храмова А. В., 2020. Метод компонентного анализа глаголов с общим значением «манера передвижения» в английском и русском языках // Развитие образования. №2 2. С. 49-54.
- Арутюнова Н. Д., 1992. Язык цели // Логический анализ языка. Модели действия: сб. ст. М.: Наука. С. 14-23.
- Булгак Е. И., 1972. Компонентная структура значения «передвижение» // Вопросы филологии. Вып. 2. Минск: Вышэйшая школа. С. 40-46.
- Влавацкая М. В., 2010. Комбинаторная семасиология: семный состав слова и сочетаемость // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. №> 12. С. 255-265.
- Кацнельсон С. Д., 2002. Типология языка и речевое мышление. М.: Едиториал УРСС. 215 с.
- Копорская Е. С., 1996. «Семантический архетип» глаголов физического движения в его отношении к строению глагольного класса // Словарь. Грамматика. Текст. М.: РАН. С. 112-120.
- Кошелев А. Д., 1996. Референциальный подход к анализу языковых значений // Московский лингвистический альманах. Вып. 1: Спорное в лингвистике: Семантика. Лексикография. Референциальный анализ. Метаязык лингвистики. М.: Яз. рус. культуры. С. 82-194.
- Кубрякова Е. С., 1992. Глаголы действия через их когнитивные характеристики // Логический анализ языка. Модели действия: сб. ст. М.: Наука. С. 84-90.
- Кузнецов А. М., 2015. Словарное значение и его психологическая реальность для среднего носителя языка // Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты. № 1. С. 160-168.
- Левонтина И. Б., Шмелев А. Д., 2005. На своих двоих: лексика пешего перемещения в русском языке // Ключевые идеи русской языковой картины мира: коллектив. моногр. М.: Яз. слав. культуры. 544 с.
- Никитин М. В., 2007. Курс лингвистической семантики. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена. 819 с.
- Никитин М. В., 1988. Основы лингвистической теории значения. М.: Высш. шк. 168 с.
- Поддубный А. А., 2002. Глаголы движения и особенности движущихся объектов // Studia Linguistica. Вып. XI: Проблемы когнитивной семантики. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена. С. 85-94.
- Попова Е. А., 2002. Человек как основополагающая величина современного языкознания // Филологические науки. №2 3. С. 69-77.
- Семантика древнерусского глагола: синхронно-диахронический аспект: коллектив. моногр., 2009 / под ред. Е. М. Шептухиной. Волгоград: Волгогр. науч. изд-во. 352 с.
- Теньер Л., 1988. Основы структурного синтаксиса. М.: Прогресс. 653 с.
- Философский словарь, 1991 / под ред. И. Т. Фроловой. М.: Политиздат. 560 с.
- Acedo-Matellan V., Mateu J., 2015. Parameters and Argument Structure I: Motion Predicates and Resultatives // Contemporary Linguistic Parameters. London ; N. Y.: Bloomsbury. P. 99-122.
- Faber P. B., Mairal R., 1999. Constructing a Lexicon of English Verbs. Berlin ; N. Y.: Mourton de Gruyter. 350 p. DOI: 10.1515/9783110800623
- Fillmore Ch., Baker C. F., 2010. A Frames Approach to Semantic Analysis // The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. Oxford ; N. Y.: Oxford University Press. P. 791-817. DOI: 10.1093/ oxfordhb/9780199544004.001.0001
- Miller G., Johnson-Laird Ph. 1976. Language and Perception. Cambridge: Cambridge University Press. 760 p.
- Rappaport-Hovav M., Levin B., 2010. Reflections on Manner/Result Complementarity // Lexical Semantics and Event Structure. Oxford ; N. Y.: Oxford University Press. P. 21-38.
- Talmy L., 2000. Towards a Cognitive Semantics. Concept Structural Systems. Vol. I. Cambridge: The MIT Press. URL: http://cogsci.edu/ semanticstalmy.com. DOI: 10.7551/mitpress/ 6847.001.0001
- BelNC - Беларуси N-корпус. URL: https://bnkorpus.info/korpus.be.html
- COCA - Corpus of Contemporary American English. URL: https: //www. english-corpora. org/coca/
- Freedictionary.com - The Free Dictionary. URL: https://www.thefreedictionary.com/
- Slounik. org - Слоутк: Беларусшя слоунт i энцык-лапедьп. URL: https://slounik.org/