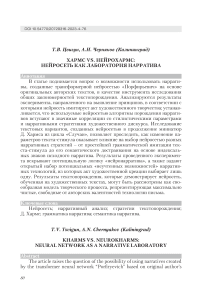Хармс vs. нейрохармс: нейросеть как лаборатория нарратива
Автор: Цвигун Т.В., Черняков А.Н.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Нарратология
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье поднимается вопрос о возможности использовать нарративы, созданные трансформерной нейросетью «Порфирьевич» на основе оригинальных авторских текстов, в качестве инструмента исследования общих закономерностей текстопорождения. Анализируются результаты эксперимента, направленного на выявление принципов, в соответствии с которыми нейросеть имитирует акт художественного творчества; устанавливается, что используемые нейросетью алгоритмы порождения нарративов вступают в значимые корреляции со стилистическими параметрами и нарративными стратегиями художественного дискурса. Исследование текстовых вариантов, созданных нейросетью в продолжение миниатюр Д. Хармса из цикла «Случаи», позволяет проследить, как изменение параметров текста-стимула оказывает влияние на выбор нейросетью разных нарративных стратегий - от простейшей грамматической имитации текста-стимула до его семантического достраивания на основе индексальных знаков исходного нарратива. Результаты проведенного эксперимента вскрывают потенциальную логику «нейронарратива», а также задают открытый набор потенциальных «неучтенных возможностей» нарративных технологий, из которых акт художественной креации выбирает лишь одну. Результаты текстопорождения, которые демонстрирует нейросеть, обученная на художественных текстах, могут быть рассмотрены как своеобразная модель творческого процесса, репрезентирующая максимально чистые, свободные от авторских валентностей технологии письма.
Нейросеть, нарративный анализ, стратегии текстопорождения, д. хармс, грамматика нарратива, семантика нарратива
Короткий адрес: https://sciup.org/149144079
IDR: 149144079 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-76
Текст научной статьи Хармс vs. нейрохармс: нейросеть как лаборатория нарратива
Наблюдающееся в последнее десятилетие активное развитие технологий нейронных сетей, все более успешно имитирующих процессы, которые ранее считались исключительной прерогативой Homo (Sapiens и тем более Faber), ставит вопрос о перспективах сохранения человеком своей уникальности как актора эстетической креации. Проблематизирующая сомнение в этой уникальности знаменитая сцена из фильма «Я, робот», в которой робот Санни отвечает на вопрос полицейского детектива Дэла Спунера «Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?» смиренным «А вы?», в свое время породившая множество мемов, сегодня уже воспринимается как полноценная метафора взаимоотношений человека и техносреды в ситуации, когда «не только каждая общая или специфическая черта каждого биологического организма, не только биологический организм как таковой, но и каждое человеческое существо… воспринимается как в некотором смысле созданное, порожденное и сконструированное» [Булатов 2016, 6].
В настоящей статье будут рассмотрены некоторые результаты эксперимента по генерации с помощью нейросетей текстов, производных от оригинальных авторских произведений. Преследуемая данным экспериментом цель состоит в верификации гипотезы, согласно которой «нейротексты» могут быть использованы как объекты для наблюдения над общими закономерностями текстопорождения, а их анализ в сопоставлении с собственно литературными текстами поможет понять, по каким принципам нейросеть имитирует акт художественного творчества и могут ли – и если да, то насколько – результаты «нейротворчества» быть соотнесены с общими конвенциями эстетической рецепции.
В качестве инструмента для проведения эксперимента была использована трансформерная нейронная сеть «Порфирьевич», размещенная в открытом доступе на сайте Нейросеть разработана российским программистом Михаилом Гранкиным как аналог НС GPT-2 компании OpenAI, ее существенное отличие от аналогичных нейросетевых разработок, которые, как правило, задействуют открытые текстовые массивы, состоит в том, что она исходно была обучена автором на ограниченном числе художественных текстов, а именно на произведениях Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.А. Булгакова и В.О. Пелевина. «Порфирьевич» генерирует связные осмысленные тексты на русском языке на основе нескольких слов или предложений, заданных пользователем (текста-стимула), эта операция может быть осуществлена любое количество раз, причем на каждом такте «Порфирьевич» предлагает новый вариант нейросетевого продолжения заданного текста; кроме того, пользователь может работать с нейросетью в режиме своеобразного диалога – продолжить сгенерированный «Порфирьевичем» фрагмент и повторить операцию, что создает диффузный текст, фактически представляющий собой результат «сотворчества» двух авторов, антропного и цифрового. Будучи обученной на художественных произведениях, нейросеть при этом не содержит ограничений по функциональной природе генерируемых текстов, о чем свидетельствуют примеры самых разных по типу и стилистике текстов, созданных «Порфирьевичем», в разделе «Галерея» на указанном сайте. А поскольку, как остроумно замечает Б. Орехов, нейросети «последовательно “косплеят” оригинал, на котором тренировались» [Орехов 2018], есть основания предположить, что используемые «Порфирьевичем» механизмы текстопорождения могут / должны регулярно учитывать стилистические параметры и нарративные стратегии художественного дискурса и в той или иной мере успешно их имитировать.
Несомненно, сгенерированный нейросетью текст даже в самом удачном своем варианте может быть расценен максимум как квазихудоже-ственный, а его существование абсолютно окказионально: как показывает опыт работы с «Порфирьевичем», каждый вновь созданный текст существует исключительно «здесь и сейчас», нейросеть не способна повторить его дважды. Впрочем, и саму эту окказиональность можно считать дополнительной настройкой эксперимента, поскольку, не повторяя на новой итерации данное ранее продолжение текста-стимула, нейросеть словно бы перебирает возможные варианты по некоторому параметру, на который она ориентируется в данных условиях и обнаружение которого показывает, каким образом в нарративе совершается переход от «глубинной» структуры к «поверхностной» (в терминологии Н. Хомского) или, если воспользоваться моделью порождающей поэтики А.К. Жолковского и Ю.К. Щеглова, от «темы» – через «приемы выразительности» – к «тексту». Результаты, полученные благодаря подобному эксперименту, сродни лабораторным образцам: наблюдение над ними вскрывает потенциальную логику нарратива, а также позволяет собрать массив его потенциальных «неучтенных возможностей», из которых акт художественной креации (как прерогатива антропного автора) выбирает лишь одну.
Как представляется, существенным условием такого «нейронарратив-ного» эксперимента является относительная компактность текста-стимула, на основании которого нейросеть генерирует продолжение: чтобы четко видеть соотношение нарративных стратегий в оригинальном авторском тексте и «нейротексте», необходимо как минимум, чтобы они были соразмерны; а следовательно, оптимальный первичный результат может дать работа с художественными микронарративами, особенно экспериментального типа, то есть такими, которые сами по себе уже содержат определенные отклонения от, условно говоря, «нулевого уровня» нарратива. В нашем случае использовались миниатюры из цикла Д. Хармса «Случаи», которые были обработаны с помощью нейросети «Порфирьевич» в две итерации с перерывом в год – в июле-августе 2022 г. и ноябре-декабре 2023 г. (поскольку любая активно используемая нейросеть, существующая в реальном времени, находится в непрерывном процессе самообучения, предполагалось, что такая временная дистанция способна дать разные результаты). Ниже рассмотрим два примера, представляющиеся нам особо показательными.
Пример № 1: короткий шаг нарратива
Нарратив миниатюры Хармса «Случаи» (1936) строится как сверхрекуррентная серия одного события – физических, ментальных и социальных смертей, приписываемых разным актантам, – парадигматическая вариативность которого поддерживается единой синтаксической моделью (предложения с анафорическим союзом «а») и завершается point’ом – абсурдирующей сентенцией, каузально не связанной с предшествующим текстом:
Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла. А дети Спиридонова утонули в пруду. А бабушка Спиридонова спилась и пошла по дорогам. А Михайлов перестал причесываться и заболел паршой. А Круглов нарисовал даму с кнутом и сошел с ума. А Перехрестов получил телеграфом четыреста рублей и так заважничал, что его вытолкали со службы.
Хорошие люди и не умеют поставить себя на твердую ногу [Хармс 2018, 272].
Текст был задан нейросети «Порфирьевич» в двух вариантах – без point’а и с ним – с целью установить, способна ли нейросеть, во-первых, воспроизвести оригинальную авторскую нарративную стратегию, а во-вторых, отреагировать на нарративный и семантический сдвиг в фина- ле текста. Рассмотрим по 10 вариантов созданного нейросетью продолжения текста шагом в один такт (продолжение текста задавалось единожды, далее нейросеть давала его варианты); во всех случаях сохранены орфография и пунктуация «нейротекста».
-
1.1. Вариант без point’а
-
1.1.1. Итерация первая (июль-август 2022)
-
-
(1) А сын начальника станции привез однажды к командиру части студента, который так громко читал стихи, что рядом с ним даже мыши начинали петь. (2) А Бабель умер сам собой и тоже умер. А Горький умер сам по себе и тоже умер. (3) А балерина Любочка умерла от скарлатины, когда... А Люба упала с окна и разбилась, когда... А Пеночкин, (4) А Сухаревский переулок стал совсем неприличным местом. А Писарро начал пить, и от него ушли две служанки. (5) А Вырвиглаз и Паниковский стали маленькими и умерли. (6) А два брата Кочневы - Жданов и Рабинович - съели на прошлой неделе леща, и у них развилась невралгия тройничного нерва. (7) А Рождественский никак не мог найти себе места и каждую минуту запирался у себя в спальне. (8) А племянник Ерофеев стащил из кассы у директора триста рублей и сбежал в Швейцарию. (9) А Чернов стал делать плоты из бочек и переезжать на них через Двину, а потом написал поэму и начал выступать с ней в школе. (10) А Маша Петровна подарила внуку Рембрандта и застрелилась… Все они умерли.
-
1.1.2. Итерация вторая (ноябрь-декабрь 2023)
-
(1) Секретарь исправительной тюрьмы тоже захотел покончить с собой, прыгнул в прорубь и утонул. (2) И, наконец, Бунин умер – от оспе. Даже старый Соломин умер. (3) Старуха Филева хотела стать святым, но не смогла, потому что была простая женщина, и села в тюрьму. Все они умерли. (4) Марья Васильевна тоже выбыла из строя. числа. (5) А Ульянова-Ленина укусила анаконда и была у нее такая падучая болезнь, которая всех передукушенных поражает. (6) И все умерли… Пока еще живые. (7) И все остальные померли, и все стало прахом, а он остался на своих местах. (8) И еще у Пересветова отросли усы и борода и стал он такой важный, такой сильный и смелый, прямо хоть сейчас в преторианскую гвардию. И стал без толку ходить по улицам, размахивая своей сабелькой, вроде как наместником неба на земле. (9) И самое интересное то, чего никому не хотелось. Никому не пришло в голову, как это все кончится. Это конец истории. (10) Меньше всех умер начальник станции Попков, который всю жизнь катался на велосипеде, а теперь лежит на вокзале и спит.
Результаты первой (2022) итерации эксперимента дают нам релевантное продолжение хармсовского нарратива, причем как в грамматических (почти без исключений – наличие анафорического «а»), так и в тематических (диапазон буквальных и символических «смертей» героев, включая абсурдирующее грамматическое «удвоение» смерти по модели «N умер и тоже умер») его координатах. Весьма примечательно, что каждый новый предложенный нейросетью вариант, находясь в замыкающей текст-стимул позиции, работает как нарративное «зеркало», то есть буквально заставляет «вчитывать» в себя хармсовские семантики, тогда как каждый их них же, взятый изолированно, эти семантики не обнаруживает (соответственно, и комический эффект от продолжений возникает только в проекции на текст-стимул). В эксперименте 2023 г. нарративное «поведение» нейросети радикально меняется: вместо союза «а» как знака рекуррентности нарратива (он появляется лишь в единичных случаях) «Порфирьевич» начинает использовать другие операторы нарративной связности – «и» (как в итеративном, так и в результирующем значении), «тоже» (встречающийся и у Хармса, однако не в формально узнаваемой анафорической позиции, а внутри предложения), «даже» и др. Однако более интересно то, что в продолжении хармсовского нарратива нейросеть делает организующую его семантику смерти не просто тотальной (частотность вариантов «и все они умерли», «и все остальные померли» и др.; ср. особенно: «Это конец истории»), но еще и допускающую градацию: «Меньше всех умер начальник станции Попков». Сопоставление нарративных стратегий нейросети 2022 и 2023 гг. позволяет сделать – конечно же, весьма аккуратное – предположение, что между двумя итерациями эксперимента «Порфирьевич» перешел от формальных к семантическим доминантам развертывания нарративов: нейросеть словно бы идентифицирует построенный на формальных повторах ряд как исчерпанный и предлагает такое его продолжение, которое дает импульс для нового семантического развития текста. Данная гипотеза подтверждается в том числе сравнением результатов эксперимента, когда в качестве текста-стимула использовался вариант с point’ом.
-
1.2. Вариант с point’ом
-
1.2.1. Итерация первая (июль-август 2022)
-
-
(1) Поэтому им и нужна музыка, литература и театр. Вот у меня и пример. (2) А плохие умеют. Так что вряд ли на всех русских матрешек, в которых воплотились наши лучшие и самые счастливые годы, можно указать пальцем. (3) Такая их судьба. Хуже всего, когда вопрос касается окружающих людей. (4) Мне самому не так давно это говорили. Мне надо перестать, Федор Иванович. Надо стать на твердую ногу и все понять. (5) Но их все равно не спасет ничто. Даже самый лучший друг. Даже самый близкий и самый любимый человек. Даже если они лучшие из людей. (6) Вот и вся их история. Но об этом никто из них не думал. Они были слишком заняты своими обычными делами. (7) А у нас с тобой твердая нога и твердая голова. Сегодня вечером пойдем погуляем по набережной, а? (8) И они действительно держатся на ней только на счет своего страдания и чужой беды. (9) Они живут по принципу «вниз головой». Все время им кажется, что они катятся по наклонной плоскости. (10) Не верят, что это возможно, и всегда считают, что жизнь при них будет только хуже.
-
1.2.2. Итерация вторая (ноябрь-декабрь 2023)
-
(1) Им нужна опора, иначе они сойдут с нее и упадут. Таков уж этот бедный мир, где обитают хорошие люди. (2) Только все они делают не подумав. Сослуживцы спрашивают его, за что он собирается награждать своих офицеров орденом. (3) Бедные же люди могут себе этого не позволить, у них этого просто нет. (4) Только плохие люди делают себе имя, и то это ненадолго. (5) Они все к кому-нибудь пристают со своими делами. Это у них на лбу написано. (6) Их надо постоянно тормошить. И помнить, какая удача может свалиться на голову. Так что он был не прав, этот Безымянный. (7) Особенно те, которые в провинции, оттого и сошли с дороги. И многих сбили. (8) Всю жизнь мечтают о своей особенной дороге. И вот один из таких сбивается с нее на старость лет. (9) Они чуть зазевались, и у них все идет прахом. (10) Только плохие люди знают, как надо. И поэтому живут. Хорошая жизнь только на картинках.
При наличии point’а нейросеть развивает формальную связность нарратива другим путем – через регулярные замены исходного «хорошие люди» местоимением «они» и его грамматическими субститутами (в том числе, например, сказуемыми-глаголами в форме множественного числа при отсутствующем подлежащем), причем такая нарративная стратегия наблюдается в обеих итерациях эксперимента примерно в равной мере. Кроме того, результаты обеих итераций показывают, как нейросеть, опираясь уже не столько на формальные признаки текста-стимула в целом, сколько прежде всего на семантический объем point’а, задает его расширения, устанавливает некие горизонты вариативности: «хорошие люди» противопоставляются «плохим», идиома «поставить на твердую ногу» либо повторяется, либо буквализируется («А у нас с тобой твердая нога и твердая голова»), либо поддерживается семантическими вариантами («им нужна опора», «сошли с дороги» и т.п.). Вполне очевидным представляется то, что семантический разрыв между текстом и его point’ом в хармсовском варианте нейросеть словно бы преодолевает через каузацию, достраивание нарратива причинно-следственными мотивировками («поэтому», «так что», «вот и», «действительно» и т.п.), корректируя девиантность текста-источника и возвращая его из плоскости эксперимента в русло «нормальной» нарративности. Если для текста Хармса point выступает как механизм семантического обнуления нарратива, знак сведения его ad absurdum, то надстройки над ним, которые предлагает нейросеть, напротив, работают скорее как открытие пути для дальнейшей наррации – не случаен, среди прочего, тот факт, что все эти варианты продолжения состоят из двух-трех фраз, а не из одной фразы-моралите, как у Хармса.
Пример № 2: длинный шаг нарратива
Миниатюра «Оптический обман» (1934) в качестве текста-стимула показывает, как «Порфирьевич» генерирует «длинный» нарратив – в том случае, когда продолжение текста задается в несколько повторов друг за другом, вследствие чего на каждом следующем шаге текст-стимул прирастает теми нарративными ходами, которые привносит в него нейросеть, и сам нейросетевой нарратив более цельно и последовательно репрезентирует свою «логику». Приведем оригинальный текст Хармса и несколько его продолжений, выполненных нейросетью (все варианты –ноябрь-де-кабрь 2023):
Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и видит: на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович, сняв очки, смотрит на сосну и видит, что на сосне никто не сидит.
Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович, сняв очки, опять видит, что на сосне никто не сидит.
Семен Семенович, опять надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак.
Семен Семенович не желает верить в это явление и считает это явление оптическим обманом [Хармс 2018, 272].
-
(1) Несколько раз он заставляет себя смотреть на дерево, поворачивая голову и глядясь в стекла очков, и каждый раз замечает на нем движение – кто-то с треском ударяется об его ветви, кто то испуганно кричит. Тогда Семен Семеныч понимает, в чем дело, снимает очки и, бледнея, долго смотрит перед собой, как бы сквозь них на столб, стоящую внизу машину и толпу. И в толпе, радостно кричащей «Ура! Ура!», замечает вдруг Трахтенберга в золотых очках. (3 такта продолжения)
-
(2) Однако по ясной форме и четким размерам галлюцинация настолько реальна, а движение правой руки, той самой, которая держала палец во рту, настолько порывисто, и она настолько непроизвольно размахивается, когда указывает на Семена Семеновича, словно желая его ударить, да и вокруг так много других примет, указывающих на реальность и убедительность увиденного, – что Семену Семенычу ничего не остается, как взять и снять с себя ответственность за существование предмета и признать галлюцинации. (4 такта продолжения)
-
(3) Он трет глаза, вытирает их ладонью и снова смотрит. А на другой стороне улицы стоит жена и дает Семену Семеновичу по шее.
Он видит это, снимает очки и по привычке видит жену, дает ей по лбу и снимает их. Тут он замечает, в чем дело. Он лежит на асфальте и орет от ужаса. Тем временем петух перелезает через забор и садится Семену Семеновичу на грудь. Придя в себя, он видит вокруг себя полчища ворон, огромные зеленые стены, красных петухов и кучу зеленых петушков. (5 тактов продолжения)
-
(4) Сосчитав до трех, он, как обычно, напрягает зрение и еще раз смотрит сквозь ресницы – и оказывается, на самом деле сосна без мужика. Это он сразу понимает, потому что деревья вокруг, плотно переплетенные тонкими иглами, действительно похожи на составленные в форме человеческой руки пальцы. Из-за веток нельзя точно определить, с какой именно стороны ствола он увидел – с правой или с левой. Но, где бы он ни оказался, если он не будет дальше пяти шагов отходить от сосны, иллюзия не пропадет, и тогда окажется, будто мужик на самой вершине сосны… Впрочем, верхушка сосны действительно выглядит как человеческое лицо – такая уж у нее поза, странная поза. Чтобы найти лицо, надо пройти чуть дальше, к самой нижней ветке, под которой лицо пропадает совсем – поэтому, чтобы оно было ясно различимо, ему приходится смотреть в одном направлении. Можно его специально поднимать. Интересно, конечно, отклониться вправо. Но надо ли? Или достаточно запомнить место, откуда начинается ветка, начинающаяся прямо из ствола. Постыдное и естественное переплетение веток – мужской зад и много раз подмеченное женское плечо. Там же, кстати, очень высокая трава. (10 тактов продолжения)
Подобно тому как в «Случаях» нарратив строится на квазисобытийном обнулении сюжетных функций, которые в своем кажущемся парадигматическом многообразии суть репрезентанты одной-единственной функции «умереть», «Оптический обман» представляет собой нарративно девиантный и нарративно дефицитный (удивителен тот факт, что он состоит всего из 34 словоформ!) текст. Грамматическая девиация в предложении «Семен Семенович, сняв очки, смотрит на сосну и видит, что на сосне никто не сидит» (вместо нормативного не видеть что-то/кого-то), усиленная лексическим оператором кратности опять, замыкает героя Семена Семеновича на один постоянно повторяющийся предикат «видеть» — мужика на сосне либо его отсутствие (см. об этом подробнее: [Цвигун, Черняков 2006]). Если использовать классическое определение события как «перемещения персонажа через границу семантического поля» [Лотман 1998, 224], можно сказать, что семантическое пространство в «Оптическом обмане» абсолютно гомогенно и лишено каких бы то ни было границ (а стало быть, асо-бытийно, поскольку все происходящее в этом мире есть лишь «оптический обман»), однако оно содержит в себе некоторые атрибуты, или, в терминах нарративной теории Р. Барта, «индексы» (см.: [Барт 2000, 205–210]), которые, сами по себе не будучи событийными элементами, выступают как потенциальные точки развития нарратива. Собственно, опираясь именно на эти индексы, а не на общую грамматическую рекурренцию текста-стимула, нейросеть выстраивает варианты семантического наполнения событийно пустого нарратива, аранжируя ими постоянно обнуляемую сюжетную функцию «видеть». Позволим себе вольность предположить, что в этом многообразии «длинных» продолжений хармсовского нарратива нейросеть обнаруживает едва ли не способность к креативности и творческой фантазии: она не дублирует и даже не развивает серийный нарратив, а дает его интерпретацию, в том числе «дописывая» фабулу из индексаль-ных знаков, помещает текст-стимул в континуум множественных миров, наделенных собственной событийностью, темпоральностью, актантными ролями и т.п. Кратко проиллюстрируем это для каждого из вышеприведенных вариантов (индексы текста-стимула выделены курсивом):
-
(1) смотрение на дерево → движение на дереве; безымянный «мужик» → «кто-то» совершает некоторые действия; очки → видение внизу машины и толпы → золотые очки Трахтенберга;
-
(2) смотрение на дерево → галлюцинация → осознание реальности галлюцинации; кулак → рука → желание ударить;
-
(3) очки → «трет глаза, вытирает их ладонью»; «мужик» на сосне → жена на другой стороне улицы → петух «садится Семену Семеновичу на грудь» → «полчища ворон, красных петухов и куча зеленых петушков» (ср. галлюцинация в (2)); кулак → жена «дает Семену Семеновичу по шее» → Семен Семенович «дает ей по лбу» → ужас;
-
(4) смотрение сквозь очки → «напрягает зрение и смотрит сквозь ресницы»; «мужик» на сосне → «сосна без мужика»; «оптический обман» → иллюзия «мужика на самой вершине сосны» → «верхушка сосны выглядит как человеческое лицо» → лицо → ветви сосны; «мужик» → «мужской зад и много раз подмеченное женское плечо».
Интересно также заметить, что план настоящего нарративного времени в тексте-стимуле и в «нейронарративе», несмотря на кажущееся формальное совпадение, действует по-разному: если у Хармса настоящее нарративное работает на создание эффекта eye-witness perspective, или «как бы на глазах у говорящего» (см. об этом: [Падучева 1996, 288]), то в нарративах, построенных нейросетью, этот временной план в значительно большей мере связан с иллюзией сновидения, бреда или галлюцинации – от прямого называния этот состояния в (2) до его нарративного воспроизведения в других фрагментах (герой «заставляет себя смотреть», «трет глаза, вытирает их ладонью», описывается его невозможность сфокусировать зрение, присутствует резкая немотивированная смена событий, жена, стоящая «на другой стороне улицы», «дает Семену Семеновичу по шее» и т.д.).
Подводя некоторые итоги, отметим, что свободный от авторских валентностей нейротекст особым образом активизирует модус читательской рецепции, наглядно демонстрирует нашу способность «вчитывать» в него способность «быть эстетически значимым высказыванием» – либо же, напротив, отказывать в такой возможности по определению. Эстетические перспективы этого свойства весьма широки: ситуация, при которой
«читатель соотносится с автором не через написанное им произведение, а через созданный компьютером на основе этого произведения конструкт», ведет к тому, что «коммуникация становится более текстоцентричной: читатель будет искать не проявление личности поэта в стихотворении, а структурные особенности, репрезентирующие совокупность текстов в обучающей выборке» [Орехов 2017, 39–40]. При таком взгляде результаты текстопорождения, которые демонстрирует нейросеть, обученная на художественных текстах, могут стать своеобразным модельным аналогом «творческой мастерской» или «творческого процесса», лишенным, однако, авторской индивидуальности, а следовательно, репрезентирующим максимально чистые технологии письма – поэтического или прозаического.
Список литературы Хармс vs. нейрохармс: нейросеть как лаборатория нарратива
- Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму / сост. Г.К. Косиков. М.: ИГ «Прогресс», 2000. С. 196-238.
- Булатов Д. По ту сторону медиума // По ту сторону медиума: искусство, наука и воображаемое технокультуры / сост. и общ. ред. Д. Булатова. Калининград: БФ ГЦСИ, 2016. С. 6-7.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: Искусство-СПБ, 1998. С. 14-285.
- Орехов Б.В. Искусственные нейронные сети как особый тип distant reading // Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема. 2017. № 2(27). С. 32-43.
- Орехов Б. Нейросети и смерть автора // Системный блокъ. 01.11.2018. URL: https://sysblok.ru/knowhow/nejroseti-i-smert-avtora/(дата обращения:15.12.2023).
- Падучева Е.В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива). М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 464 с.
- Хармс Д. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 2. М.: Зебра Е, 2018. 620 с.
- Цвигун Т.В., Черняков А.Н. Русский авангардизм как несказанное и несказанное. Статья II: Риторика нарратива // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. 2006. № 8. С. 45-53.