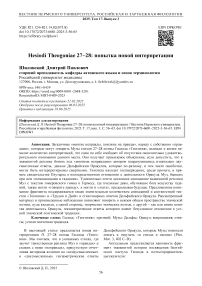Hesiodi Theogoniae 27–28: попытка новой интерпретации
Автор: Шиловский Д.П.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
Загадочные «многие неправды, похожие на правды», наряду с собственно «правдами», которые могут говорить Музы стихов 27–28 поэмы Гесиода «Теогония», вызвали к жизни немалое количество интерпретаций, что само по себе сообщает об отсутствии окончательно удовлетворительного понимания данного места. Оно получает приемлемое объяснение, если допустить, что в знаменитой реплике богинь под «многими неправдами» автором подразумевались изначально двусмысленные ответы, данные Дельфийским Оракулом, которые по-разному, в том числе ошибочно, могли быть интерпретируемы смертными. Гипотеза находит подтверждение, среди прочего, в прямом свидетельстве Плутарха о непосредственном отношении к деятельности Оракула Муз, бывших при нем «помощницами в гаданиях». Удивительно почти дословное совпадение знаменитой реплики Муз с текстом гомеровского гимна к Гермесу, где пчелиные девы, обучившие бога искусству гаданий, также могли «говорить правду», а могли и «лгать», предсказывая будущее. Предложенное понимание фрагмента поддерживается также значительным количеством совпадений и соответствий текстов «Теогонии» и «Трудов и Дней» и стихотворных ответов Дельфийского Оракула. Рассмотренный материал и произведенные наблюдения позволяют говорить о некоем общем пространстве эпической поэзии, куда входили, с одной стороны, творчество эпических поэтов, с другой – так или иначе понятая деятельность Оракула, гекзаметрические ответы которого имеют безусловное отношение к устной эпической поэтической традиции.
Гесиод, «Теогония», проэмий, Музы, Дельфы, Оракул, вопрошания, ответы, устная эпическая традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/147252279
IDR: 147252279 | УДК: 821.124+821.14,02(075.8) | DOI: 10.17072/2073-6681-2025-3-56-65
Текст научной статьи Hesiodi Theogoniae 27–28: попытка новой интерпретации
В настоящей статье предлагается новая интерпретация ff. 27–28 поэмы Гесиода «Теогония». Мы считаем, что в указанных стихах, где звучит таинственная реплика Муз о «правдах» и схожих с ними «неправдах», присутствует отчетливая авторская аллюзия на «недвусмысленные» и «двусмысленные» гекзаметрические ответы
Дельфийского Оракула, которые Музы помогали понять и озвучить «в стихах и песнях» (Plut. Mor. 3, 402 C–D).
Актуальным представляется напомнить фрагмент знаменитой истории посвящения беотийского пастуха Гесиода в поэты/пророки/пев-цы/сказители:
τόνδε δέ με πρώτιστα θεαὶ πρὸς μῦθον ἔειπον, Μοῦσαι Ὀλυμπιάδες, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο· ποιμένες ἄγραυλοι, κάκ᾽ ἐλέγχεα, γαστέρες οἶον, ἴδμεν ψεύδεα πολλὰ λέγειν ἐτύμοισιν ὁμοῖα, ἴδμεν δ᾽, εὖτ᾽ ἐθέλωμεν, ἀληθέα γηρύσασθαι.
Прежде всего обратились ко мне со словами такими
Дщери великого Зевса-царя, олимпийские
Музы:
«Эй, пастухи полевые, – несчастные, брюхо сплошное!
Много умеем мы лжи рассказать за чистейшую правду.
Если, однако, хотим, то и правду рассказывать можем! » (Th. 22–28, пер. В. В. Вересаева)
История посвящения беотийского пастуха Гесиода, изложенная в его поэме «Теогония», принадлежит к числу самых знаменитых во всем архаическом древнегреческом эпосе. Прозвучавшая перед инициацией известная реплика Муз ff. 27–28 «Теогонии» принадлежит еще и к числу самых загадочных, а потому – самых интерпретируемых и комментируемых; historia quaestionis интерпретаций этих двух стихов весьма впечатляет своим объемом [Katz, Volk 2000: 123–124]. Совершенно не претендуя на подробное изложение разнообразных мнений исследователей, обозначим представляющееся релевантным: традиционно выделяются две основные группы интерпретаций. Первую, считающуюся opinio communis [ibid.: 122], предлагают называть условно «дуалистической». Группа эта понимает вышеуказанное место как литературную полемику, мнение ее состоит в том, что Музы, как вдохновительницы поэтов, сообщают таким образом о двух разновидностях поэзии, одна из которых может содержать ложь, похожую на правду, другая же является исключительно правдивой. По предлагаемой логике, эпическое выражение «будущее и прошедшее» (τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα) (f. 32) понимается как синоним «правдивости» вообще. Поручение Гесиоду вещать это самое «будущее и прошедшее» рассматривается в качестве очевидного подтверждения того, что новообращенного поэта научили слагать и оглашать именно такую «правдивую» поэзию, такую же, какую оглашают и сами Музы f. 38, также «вещающие настоящее, будущее и прошедшее» (εἰρεῦσαι τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα). Эта эпическая формула считается более полной версией выражения f. 32, встречающего в «Илиаде», где его произносит прорицатель Калхант (Il. I. 70), очевидно вещающий «правду», и ничего, кроме правды; это считается убедительным подтверждением «правдивости» этой разновидности поэзии [Stroh 1976: 88–89]. К этой же группе интерпретаций можно отнести и те, в которых полагают, что никакой полемики в позднейшем смысле слова тут нет, а есть таким образом оформленное Гесиодом утверждение исключительно правдивого характера собственного творчества [Roessler 1980: 296–297; Rudhart 1996: 30]. Сюда же можно отнести мнения, видящие в данном месте полемический выпад против гомеровского эпоса, от которого хочет отделить себя сам Гесиод, открывший «правдивый» жанр дидактической поэзии [Kambylis 1965: 62–63, Kannicht 1980: 20–21]. Это мнение стало чем-то вроде само собой разумеющегося locus communis [Verdenius 1972: 234–5; Murray 1981: 91; Puelma 1989: 75], со времен Ф. Ницше, провозгласившего в своих лекциях по истории греческой литературы 1874– 1875 гг., что “Lügensang ist homerisch, Wahrsang ist hesiodisch” [Nietzsche 1995: 54].
Й. Свенбро и Г. Надь полагают, что «многолживыми» (ψεύδεα πολλά) поэт считает локальные версии мифов, иные, негесиодовские, «конкурирующие» теогонии и генеалогии [Svenbro 1976: 65–67, Nagy 1990: 45–47], которые поэт отвергает ради некоей «общегреческой поэзии».
«Монистическая» же точка зрения меньшинства исследователей состоит в том, что «лживость» или «правдивость» признаются характеристиками всей поэзии вообще, включая и гесиодовскую, ибо поэзия никогда не сообщит «всю правду», неизбежно смешав ее с «ложью», и склонна к вымыслу как в силу собственной природы, так и в силу связи с заведомо необъективным речевым дискурсом [Pucci 1977: 8–44]. Да и сам поэт, в силу, вероятно, той же собственной природы, часто не прочь приврать или приукрасить [West 1966: 162, Thalmann 1984: 146–149]. Иные же «монисты» полагают, что Гесиод признает «сходную с истинностью ложность» за всей только негесиодовской поэзией [Neitzel 1980: 388].
Тем не менее, и при таком изобилии мнений, остается некоторое количество вопросов, не получивших, на наш взгляд, до конца удовлетворительные ответы.
Если же признать изображение эпифании (как мы полагаем) художественным приемом, использованным автором по таким-то и таким-то соображениям с такими-то и такими-то целями для примерно такой-то и такой-то аудитории, то тем более странно предположить понимание героического (sc. гомеровского) эпоса исключительно как «многих неправд», пусть даже «похожих на правды», в конце VIII – первой половине VII в. до Р. Х., со всеми оговорками и поправками на то, что гомеровские боги иногда могли и обманывать.
Утверждение ἴδμεν … λέγειν подразумевает у Гесиода некоторый контекст, который приходится признать критически необходимым для сколько-нибудь связного понимания эпифании. В описываемой коммуникации, а иначе понимать ситуацию затруднительно, этот подразумеваемый контекст предполагает некое предшествующее общение его участников, обусловившее содержание текущего.
Мы предполагаем, что эта неожиданно появившаяся реплика «мы умеем говорить» (ἴδμεν … λέγειν) может быть понята не только как декларация божественного произвола обма-нывать/не обманывать, но и как следствие каких-то контактов, подразумеваемых автором, причем контактов, в том числе речевых, имевших место быть ранее и актуальных как для адресанта, так и для адресата коммуникации, то есть и Музам, и пастухам (пастуху?), контактов, обусловивших возникновение в данном месте оппозиции правдивого и ложного.
Где, когда, при каких обстоятельствах и относительно чего (бессмертные богини) Музы могли говорить ( λέγειν ) (смертным) пастухам «многие неправды, похожие на правды», а также просто правду? В сфере каких высказываний в эпоху архаики, да и не только в эпоху архаики, возможны прямые вербальные сообщения из мира горнего, относительно которых критично актуальными для смертных вообще была бы истинность и (сходная с истиной) ложность? Более того, где вообще смертные могли почти непосредственно слышать бога регулярно и с минимальным количеством посредников?
Напрашивается предположение, что в разбираемом месте поэмы речь может идти о подразумеваемой Гесиодом связи реплики Муз со сферой так или иначе выраженных мантических/ пророческих высказываний. Предлагаемое основывается на том, что Музы имели непосредственное отношение к сфере предсказаний.
Приведем подтверждение прямым свидетельством.
Плутарх сообщает о существовании в Дельфах святилища Муз, непосредственно связанных со стихотворной формой пророчества:
«Итак, обойдя вокруг, мы уселись у основания южной стороны храма, возле святилища Геи, и стали смотреть на воду. Боэт тотчас же заметил, что даже место здесь способствует сомнениям гостя: “Ведь здесь, неподалеку от бьющего ключа, находилось святилище Муз, откуда брали воду для возлияний и омовений (Μουσῶν γὰρ ἦν ἱερὸν ἐνταῦθα περὶτὴν ἀναπνοὴν τοῦ νάματος, ὅθεν ἐχρῶντο πρός τε τὰς λοιβὰς ὕδατι τούτῳ) <…>
А Музы были здесь поставлены как помощницы в гаданиях и хранительницы источника и святилища Геи, которой, говорят, принадлежало это прорицалище, ибо вещания здесь давались в стихах и песнях ( τὰς δὲ Μούσας ἱδρύσαντο παρέδρους τῆς μαντικῆς καὶ φύλακας αὐτοῦ παρὰ τὸ νᾶμα καὶ τὸ τῆς Γῆς ἱερόν, ἧς λέγεται τὸ μαντεῖον γενέσθαι διὰ τὴν ἐν μέτροις καὶ μέλεσι χρησμῳδίαν )”» (Plut. Mor. 3, 402 C–D, пер. Л. А. Фрейберг).
Таким образом, Музы были первоначальными «помощницами при гаданиях» (παρέδρους τῆς μαντικῆς) в святилище Геи в Дельфах. Эти помощницы облегчали адекватную коммуникацию: помогали понять услышанное χρησμῳδίαν «вещание», возможно, озвученное «в стихах и песнях» (ἐν μέτροις καὶ μέλεσι), разумеется, при этом проговаривая (λέγειν) его и, вероятно, содействуя окончательному его оформлению в стихотворную форму; эта форма, очевидно, выгодно способствовала утрате определенности и недвусмысленности понимания прорицания [Parke 1981: 100]. Отсюда предположение: слова гесиодовских Муз «умеем говорить» подразумевали примерно: «(пророчества) умеем (про)говорить (стихами)».
Приведем подтверждение примером текстуального совпадения.
«Некие Фрии на свете живут, урожденные сестры,
Девы. <…>
Если безумьем зажгутся, поевши янтарного меда,
Всею душою хотят говорить они чистую правду.
(προφρονέως ἐθέλουσιν ἀληθείην ἀγορεύειν .)
Если же сладостной пищи богов не отведают нимфы,
Тех, кто доверится им, поведут безо всякой дороги .
( ψεύδονται δὴ ἔπειτα δι᾽ ἀλλήλων δονέουσαι.)» (Hom. hymn. Herm., 552–563, пер В. В. Вересаева).
Мы видим точное соответствие выделенного ἐθέλουσιν ἀληθείην ἀγορεύειν («желают говорить правду») гесиодовскому ἐθέλωμεν, ἀληθέα γηρύσασθαι («хотим… возвещать правды»); ψεύδονται (соб. «лгут») гимна, в свою очередь, соответствует ψεύδεα... λέγειν («говорить… неправды») «Теогонии».
Такое соответствие вряд ли возможно признать случайным; поэтому представляется важным напомнить некоторые сведения об описываемых гимнографом существах.
В тексте это просто «девы» (παρθένοι), они не названы «Фриями»1, не названы по именам и не упоминаются более нигде в гомеровском и гесио-довском корпусах. Подобно горным нимфам (Hom. hymn. IV Aphr. 259–272), они живут в определенных горах (Hom. hymn. III Herm. 555), летают туда и сюда, то собираясь вместе, то разлетаясь в стороны, что похоже на танец, традиционное занятие нимф, Муз и Харит (Hom. hymn. III Herm. 558). Они едят пищу богов (Hom. hymn. Herm. 562, IV Aphr. 260) и обладают способностью гадать и предсказывать будущее2. Если допустить отождествление этих пчелиных дев и Фрий3, то в отношении последних можно также добавить следующее. Фрагмент Ферекида (Fr. Gr. Hist. 3 F 49) сообщает, что их было три, откуда выводится их название, и были они дочерями Зевса. По Филохору, они нимфы, жившие на Парнасе, воспитательницы (κουροτρόφοι) Аполлона, которого обучили искусству гаданий (Fr. Gr. Hist. 328 F 125). Их также три, назывались Фрии (Θριαί), от них гадательные камешки также называются θριαί, а гадание с их помощью θριιᾶσθαι. По информации Anecdota Graeca (I, 265, 11) и Et-ymologicum magnum (s. v. Θρίαι), Θρίαι означало и гадательные камешки, и нимф, которые изобрели гадание по камешкам, они же предложили их Афине. Стефан Византийский s. v. θριαί и Зенобий (Fr. Gr. Hist. 328 F 195) пишут, что Афина сама изобрела гадание по камешкам, но Зевс счел этот вид прорицания недостойным (богов). Гезихий s. v. Θριαί пишет также, что были они первыми гадательницами (μάντεις).
Пророчества этих пчелиных дев бывают правдивы и ложны: вкусивши божественной пищи (меда) и «придя в исступление» (θυΐωσιν), они охотно желают говорить правду, и, соответственно, говорят ее, если же лишаются сладостной пищи богов, то говорят людям неправду. Таким образом, пчелиные девы имеют самое прямое и непосредственное отношение и к сфере собственно мантики, индуктивных предсказаний (само их имя может значить «гадательные камешки»), и к сфере интуитивных предсказаний – придя в энтусиастическое состояние сознания, они дают верные предсказания, не придя в него – дают неверные.
Очевидные соответствия и параллели между Музами и пчелиными девами/Фриями лежат на поверхности4, они основательно описаны в статье С. Шейнберг [Sheinberg 1979: 1–28]. Тем не менее следует отметить несколько актуальных для нашего исследования фактов: число и тех, и других, и третьих весьма часто бывает именно три [West 1966: 426], они и кормилицы, и воспитательницы [ibid.: 347], и гадательницы, и предсказательницы [Farnell 1909: 425], все имеют отношение к меду как пище богов [Roscher 1883: 25 et passim], и к меду как опьяняющему напитку, погружающему в необходимое для прорицания состояние.
Важным здесь является общеизвестная связь пчел именно с Дельфийским Оракулом5: например, второй храм Аполлона был построен пчелами и птицами из воска и перьев (Paus.10.5.9; Plut. De Pyth. Or. 402 D; Philostr. Vit. Apoll. 6.10), Пифию Пиндар называет «Дельфийской пчелой» (Pyth. 4.60). Пчелы же повсеместно ассоциируются с Музами: так, например, Музы превращаются в пчел, ведя афинян в Ионию (Philostr. Im. 2.8.6.), Варрон называет пчел птицами Муз (De r. rust. 3,6) и проч.
Примечательно, что эти пчелиные девы приходят в состояние исступления, откушавши меда (θυΐωσιν ἐδηδυῖαι μέλι χλωρόν) (Hom. hymn. Herm. f. 560), который назван «сладкой пищей богов» (θεῶν ἡδεῖαν ἐδωδήν) (Ibid. f. 562). В Th. 83 – 84 Музы «льют на язык певцу сладкую росу» (μὲν ἐπὶ γλώσσῃ γλυκερὴν χείουσιν ἐέρσην), позволяющую ему произносить «медовые речи» (μελίχια ἔπη)6.
Совпадение Th. 27–28 и Hom. hymn. Herm. 561–563 выделяется многими исследователями. Отмечается также, что гимнограф, описывая практику гадания пчелиных дев, почти цитирует ff. 27–28, очевидно используя «один и тот же язык» [Sheinberg 1979: 11].
Напрашивается вопрос: почему используется этот «один и тот же язык», почему прорицания пчелиных дев гомеровского гимна и откровения Муз «Теогонии» выражены практически одними и теми же словами?
Представляется возможным предположить, что один текст оказался востребованным другим текстом на основании некоего общего семантического компонента, который связан с семантикой сферы гаданий/предсказаний: если пчелиные девы имеют непосредственное отношение к ней, то, следовательно, и относительно Муз придется признать какое-то отношение к этой же сфере. Причем последнее оказывается справедливым не только относительно Дельфийских Муз при Оракуле, о которых мы привели свидетельство Плутарха, но и относительно Муз Геликонских7 с их «правдами» и «неправдами, похожими на правды».
Итак, при прорицалище Геи Музы облегчали взаимодействие звеньев цепи мантической коммуникации. Описание особенностей практики гадательниц и тезок собственно гадательных камешков θριαί девопчел/Фрий практически совпадает с репликой Муз в разбираемом месте «Теогонии». Музы имеют значительное количество прямых взаимодействий и с (до)аполлоновским Дельфийским Оракулом, и с самим Аполлоном, и с его деревом лавром [Stern-Gillet 2014: 36], и с другими Оракулами, и с гадательной практикой, и с прорицательной практикой, и с пчелами, и с медом, превратившимся потом в «мед поэзии», и даже с употреблением перед пророчествованием экстатических – или считающимися таковыми – веществ.
Может ли всё вышеперечисленное, и не только оно, служить достаточным основанием для самого осторожного предположения, что известная загадочная реплика гесиодовских Муз в ff. 27–28 «Теогонии» понималась автором как имеющая отношение к сфере гаданий/предсказаний8?
Вопрос в данном случае не является совсем риторическим. Доказательным, а тем более документально доказательным, равно как и доказуемым, мы можем считать весьма ограниченный круг фактов взаимодействий и взаимовлияний архаических мифологических текстов. В большинстве случаев эти сближения и пересечения являются примерами лишь соблазнительного сходства, обнаруживая не заимствование, но взаимодействие. Именно того «доказательного “генетического” звена» [Гринцер 2012: 68], как правило, недостает, а «конкретный текст», доказывающий это «взаимодействие» (текст, а не мотив или «параллель»!), как почти всегда, отсутствует. В рассматриваемом случае, даже если ff. 561–563 Hom. hymn. Herm. не признавать таковым звеном, а считать лишь «эпическим клише», по аналогии с αὐδὴν θέσπιν Th. 31–32 и θέσπιν ἀοιδήν Hom. hymn. Herm. 442, факт текстуально доказанного взаимодействия, на наш взгляд, имеет место быть, и не замечать его невозможно.
Выше мы отметили: «…и не только оно». Если мы предполагаем, что Гесиод подразумевал ψεύδεα πολλὰ как аллюзию на какие-то ответы Дельфийского Оракула, то естественным представляется обратиться рассмотрению того, чем был во времена Гесиода Дельфийский Оракул, и каковы, собственно, были его ответы на вопрошания. Разумеется, рамки статьи делают невозможным даже приблизительное конспективное изложение сложнейшего комплекса вопросов о том, чем на самом деле был Дельфийский Оракул, что в нем на самом деле происходило, какие из ответов действительно принадлежали ему [Fontenrose 1978: 7] и каково было его значение для Древней Греции в ее разные времена. В нашем случае речь пойдет именно о представлениях, сложившихся ко времени Гесиода об Оракуле и его ответах, в том числе об амбивалентной двусмысленности, смысловой затемненности и неясности как сущностной характеристике жанра (значительного количества) этих ответов.
Дж. Фонтенроуз дает тематическую классификацию ответов, согласно которой оракулы могли касаться Res Divinae, Res Publicae, Res Domesticae et Prophanae [Fontenrose 1978: 25–29], причем во всех предложенных разделах имеют место быть те, что автор называет ambiguous «двусмысленный», вероятно, это такие, у которых окончательное понимание истинности какого-нибудь из предложенных вариантов поведения наступает либо сильно не сразу, либо вовсе post eventum. Другая его классификация включает ответы «исторические», «квазиисторические», «легендарные» и «вымышленные» и является классификацией по происхождению. Эти ответы, в свою очередь, распределяются по «способу выражения», их разновидности суть «простые команды», с подразделением на «санкции» и «двусмысленные команды»; «команды с условием»; «запреты и предупреждения», подразделяемые на «понятные» и «двусмысленные»; «объявления о прошлом и настоящем», подразделяемые на «общеизвестные» и «экстраординарные»; «объявления о будущем простые», подразделяемые на «не предсказательные», «понятные предсказания» и «двусмысленные предсказания»; и «предсказания с условием/c условиями», которые все могут быть обозначены как вполне «двусмысленные» [Fontenrose 1978: 13–24]. Эти «двусмысленные» ответы, о которых и шла речь, представлены в большинстве рубрик в количестве весьма значимом; семантически к ним могут быть отнесены ответы с неясным исходом, а таковы все, относящиеся к плану будущего (включая команды/команды с условием/советы/реко-мендации/предписания/запреты и проч.); таких ответов оказывается вовсе не так мало.
Принято говорить если не о примерном тождестве, то о почти неразличимой близости фигуры пророка и фигуры поэта-певца в ранней греческой, и не только греческой поэзии. Понимается эта близость как близость вообще к богу, к интуитивно-божественному началу поэтического вдохновения, «меду поэзии» и подобным вещам. Но, если оставить вдохновение в стороне, то стоит отметить, что из 581 ответа, которые подлинно произведены Дельфийским Оракулом или приписаны ему, 175 написаны гекзаметром, и многие другие являются прозаическим парафразом стихов. Например, из восьми стихов PW № 1 семь входящих туда семантически законченных высказываний повторяются почти дословно у Гомера и Гесиода, и только три полустишия не имеют эпических аналогов [McLeod 1961: 318]; развернутые списки этих соответствий приведены в работе У. Маклеода [ibid.: 318, 321].
Соответствия эти по большей части суть знакомые «эпические поэтические формулы», естественные в устной эпической традиции.
Совпадать могли не только поэтические формулы, но и целые стихи: так, последний стих ответа Оракула Главку PW № 35 полностью совпадает с f. 285 «Opera et Dies», и это не единственный пример (взаимо)влияния на этом уровне: «Труды и Дни» имеют значительное количество стихов, гномических по характеру и «очень близких по форме и стилю Дельфийским оракулам» [Parke, Wormell 1956: xxxiii]. Цитаты из Гесиода встречаются в ответах Оракула; обратные заимствования были вполне возможны, конечно, если говорить о Corpus Hesiodeum в целом9.
При всех трудностях определения аутентичности ответов Оракула, 72 со всей определенностью можно считать подлинными; таковой массив дает основания исследователям предположить существование чуть ли не «штатной должности» специалиста-сказителя/сказителей при службе Дельфийского Оракула [McLeod 1961: 319]. И, как ни решать вопрос о поэтических компетенциях непосредственно Пифии, традиционно считается, что в состав служб при ней были включены версификаторы, перекладывавшие произнесенные ею ответы гекзаметрами (Strab. 9. 3. 5, Plut. De Pyth. 407 B). Ответы Оракула, бесспорно, принадлежали устной поэзии, естественно связанной с существовавшей устной поэтической эпической традицией. Неизбежно возникающие вопросы о хронологическом приоритете, например Гесиода или Оракула, в изобретении таких «формул» предлагается разрешить введением термина «Фокейская поэтическая школа», которая также принимала участие в выработке, так сказать, общего арсенала средств эпической поэзии, при этом отмечается ее большая близость школе беотийской, нежели ионической. И, конечно, нельзя не отметить позицию Виламовица, поддерживавшего идею о близких связях Дельфийского Оракула и эпических поэтов [Wilamowitz-Moellendorff 1955: 2, 39].
Прямых свидетельств о контактах Гесиода и Дельфийского Оракула нет. Но даже если поэт и не посещал Оракул в соседней Фокиде, то не будет сильной натяжкой предположить, что Гесиод пользовался большим массивом его ответов, получая его из своих беотийских источников: значительное количество пословиц, рекомендаций, запретов, наконец, советов и прочего гномического материала «литературы мудрости» в поэме
«Труды и Дни» вполне может рассматриваться косвенным свидетельством таких контактов [Parke, Wormell 1956: xxxii–xxxiii].
Теперь мы можем, наконец, осторожно обобщить наши предположения: в ff. 27–28 имеет место аллюзия на озвучивание Музами «вещаний»-ответов Дельфийского Оракула, которые могут быть правдивыми ( ἀληθέα γηρύσασθαι ), то есть сбываться, а могут быть по виду равновероятно и правдивыми, и ложными: ψεύδεα ... ἐτύμοισιν ὁμοῖα. Истинность самых разных видов ответов Оракула – команды/команды с условием/сове-та/рекомендации/предписания/ запрета, и далее, до загадок и пословиц, равно как и заведомая абсурдность таковых, прояснится для смертных , как и было сказано выше, лишь со временем, иногда с немалым временем (например, пророчество про «три урожая» Гераклидов и их (не)понимание дорянами), а иногда и вообще post eventum. До этого прояснения «месседж» может быть «неправильно понят» и, соответственно, повлечь за собой неправильный вариант поведения вопрошающего/вопрошающих, то есть, в конечном результате, оказаться для них ложным ( ψεύδεα ). Таким образом, добавление к f. 27 «умеем говорить многие неправды, похожие на правды» (ἴδμεν ψεύδεα πολλὰ λέγειν ἐτύμοισιν ὁμοῖα), важнейшего пояснения « для смертных »10, полностью проясняет ситуацию: ведь, боги, как правило [Stern-Gillet 2014: 40], не могут лгать вопрошающим их смертным [Almqvist 2021: 41; Naerebout, Beerden 2013: 141], а вот смертные вполне могут неправильно понимать предоставленную «сверху» информацию.
Боги, видимо, в зависимости от уровня благочестия вопрошания11, а может быть, и гомерического смеха ради, могут сообщить диким пастухам информацию, допускающую в том числе и взаимоисключающие толкования. Эти пастухи, под которыми, как мы отмечали, могут подразумеваться и вообще смертные [Collins 1999: 254], не в состоянии отличить одно понимание «божественной правды» пророчества от полностью ему противоположного и вовремя понять, какое из них «настоящее». В некотором будущем одно из этих пониманий перестанет быть правдой и сделается для этих смертных ложью в силу ограниченности их собственной природы, а также иных горизонтов понимания и планирования. Пророчество, которое может быть понято с точностью до наоборот, естественно, может и сбыться с точностью до наоборот, причем при отсутствии каких-либо грамматических возражений к его тексту: греческий язык располагает для этого более чем богатыми возможностями. Самый знаменитый пример – ответ Дельфийского Оракула Крезу, что тот, «перейдя реку Галис, разрушит великое царство».
В этом, вероятно, и состоит «насмешка неба над землей», «многие неправды» ( ψεύδεα πολλά) гесио-довских Муз, «похожие на правды» ( ἐτύμοισιν ὁμοῖα) , а то и точно совпадающие с ними, но ими не являющиеся: всё-таки Крез в известной истории Геродота разрушил совсем не то царство, какое хотел.