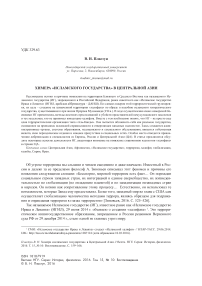Химера "Исламского государства" в Центральной Азии
Автор: Пластун Владимир Никитович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 10 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены истоки и причины появления на территории Ближнего и Среднего Востока так называемого Исламского государства (ИГ), запрещенного в Российской Федерации, ранее известного как «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, арабская аббревиатура - ДАИШ). По словам лидеров этой террористической группировки, их цель - создание на захваченной территории «халифата» по образу и подобию исламского теократического государства, существовавшего при жизни Пророка Мухаммада (VII в.). В ходе осуществления своих намерений боевиками ИГ применялись методы жестоких преследований и убийств представителей немусульманского населения и тех мусульман, кто не принимал концепцию халифата. Вместе с тем необходимо понять, что ИГ - не просто еще одна террористическая организация типа «Аль-Каиды». Она пытается обозначить себя как реальное государство, основанное на принципах исламской справедливости и отвергающее западные «ценности». Здесь создаются административные органы, системы образования, медицинского и социального обслуживания, вводится собственная валюта, свои периодические издания и мощное присутствие в социальных сетях. Особое место отводится привлечению добровольцев и специалистов из Европы, России и Центральной Азии (ЦА). В статье предлагается обсудить некоторые аспекты деятельности ИГ, акцентируя внимание на появление сторонников идеологии «халифата» в странах ЦА.
Центральная азия, афганистан, "исламское государство", терроризм, халифат, глобализация, талибы, сирия, иран
Короткий адрес: https://sciup.org/147219498
IDR: 147219498 | УДК: 329.63
Текст научной статьи Химера "Исламского государства" в Центральной Азии
Об угрозе терроризма мы слышим и читаем ежедневно и даже ежечасно. Известный в России и далеко за ее пределами философ А. Зиновьев описывал этот феномен и причины его появления следующими словами: «Бесспорно, мировой терроризм есть факт… Он порожден социальным строем западных стран, их интеграцией в единое сверхобщество, их жизнедеятельностью по глобализации (по овладению планетой) и по западнизации незападных стран и народов. Он возник как сопротивление этому процессу… Естественно, он использовал те возможности, которые Запад ему предоставлял. Более того, западный мир во главе с США сам осуществляет глобализацию человечества методами террора, являясь образцом для подражания и оправдывая терроризм в глазах террористов» [Зиновьев, 2016. С. 525–526].
Так называемое Исламское государство (ИГ), известное ранее как «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), 29 июня 2014 г. объявило о создании «халифата» 1. Это террористическое квазигосударственное образование, запрещенное в России решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г., стало одной из главных угроз миру.
Дестабилизация региона Ближнего и Среднего Востока представляет собой настолько серьезную опасность, что Москва приняла решение о прямом военном вмешательстве в ситуацию. Выступая на заседании Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе 15 сентября 2015 г., Президент РФ В. В. Путин заявил: «В рядах ИГИЛ проходят идеологическую обработку и военную подготовку боевики из многих стран мира, включая, к сожалению, и европейские страны, и Российскую Федерацию, и многие бывшие республики Советского Союза. И, конечно, нас беспокоит их возможный возврат на наши территории… Мы поддерживаем правительство Сирии в противостоянии террористической агрессии, оказываем и будем оказывать ему необходимую военно-техническую помощь и призываем присоединиться к нам другие страны» 2.
В своей речи на 70-й юбилейной сессии ООН в Нью-Йорке 28 сентября того же года он призвал «создать по настоящему широкую международную антитеррористическую коалицию» для борьбы с теми, кто своими антигуманными действиями оскорбляет «величайшую мировую религию – ислам». Мировому сообществу по силам «выработать всеобъемлющую стратегию политической стабилизации и социально-экономического восстановления Ближнего Востока». С этой целью необходимо оказать помощь в восстановлении государственных структур в Ливии, поддержать Ирак, «оказать всестороннюю помощь законному правительству Сирии» 3.
Соответственно, 30 сентября 2015 г. «самолеты российских Воздушно-космических сил приступили к проведению воздушной операции с нанесением точечных ударов по наземным целям террористов ИГ на территории Сирии» 4.
Самые опасные черты в деятельности ИГИЛ перечислил недавно скончавшийся известный востоковед-арабист акад. Е. М. Примаков. Он указал, что ИГ «превращается в глобальный центр непримиримых исламских радикалов» и к ним присоединяются группы «исламских “джихадистов” из стран Ближнего Востока, Северной Африки, Европы, Америки и Австралии». Ссылаясь на данные ЦРУ США, академик приводил цифры, свидетельствующие о том, что в течение трёх месяцев после того, как ИГ заявило о себе, число джихадистов возросло в 3 раза, составив армию более чем в 30 тыс. боевиков 5.
Идеологическая платформа ИГ, писал Е. Примаков, – «создание халифата на всех территориях с мусульманским населением – имеет немало сторонников. Однако ряд арабских стран примкнул к государствам, заявившим о готовности противодействовать группировке “ИГ”. Так что не все однозначно в арабском мире» 6.
В книге «Россия. Надежды и тревоги» Е. М. Примаков предупреждал: «…“Исламское государство”, особенно укрепившись, представляет опасность и для стран Центральной Азии, да и для России, где, к сожалению, всё ещё существуют лица, ратующие за создание халифата на территориях, населенных мусульманами» [Примаков, 2015. С. 215].
Призывая к сотрудничеству в борьбе против терроризма, российский ученый отметил, что сложившаяся обстановка «во многом стала результатом политики США, совершивших интервенцию в Ирак, да и итогом той политики, которую проводили американские оккупационные власти. Интервенция США окунула Ирак в хаос, полностью разбалансировала ситуа- цию в этой стране, где начались кровавые столкновения между представителями двух главных направлений в Исламе – шиитами и суннитами… Невозможно оправдать и тот факт, что недальновидная, мягко говоря, политика Соединенных Штатов способствовала вооружению тех самых радикалов-террористов, которые затем развернули свое оружие и против США» [Примаков, 2015. С. 212–213].
В 2016 г. «Рэнд корпорэйшн» (США), специализирующаяся на разработке новых методов анализа стратегических проблем и новых стратегических концепций, опубликовала доклад, в котором констатировала, что, «скорее всего, Исламское государство является преемником Аль-Каиды в Ираке (AQI-АКИ) и Исламского государства Ирака (ISI-ИГИ)». Оно «представляет серьезную опасность для населения и стран Ближнего Востока и растущую угрозу за пределами региона» [Foundations…, 2016. Р. XIII].
В то же время авторы исследования утверждают: с этими группировками «Соединенные Штаты, их партнеры по коалиции, правительство Ирака и население Ирака боролись, начиная со дня вторжения войск коалиции в Ирак». Утверждение более чем сомнительное. Причиной вторжения войск США и их союзников в Ирак в апреле 2003 г. натовцы объяснили наличием у режима С. Хусейна оружия массового уничтожения. Госсекретарь США К. Пауэлл, выступая в Совете Безопасности ООН, заверял, что Ирак обладает запасами ядерного и химического оружия. В ходе боевых действий, по данным американских СМИ, в Ираке погибло от 100 до 300 тыс. человек, включая гражданское население. Военные потери коалиционных сил составили более 4,8 тыс. человек. Погибли 4 486 тыс. военнослужащих США, 179 военнослужащих Великобритании, 139 военнослужащих из 21 страны мира. А потом, когда международная комиссия не обнаружила в Ираке ни ядерного, ни бактериологического оружия, в Вашингтоне интервенцию объяснили плохой работой разведки США, предоставившей «неточные сведения» 7.
Напомним, что в октябре 2001 г. США и их партнеры по НАТО вторглись в Афганистан под таким же лозунгом «борьба с международным терроризмом». Но терроризм возник не на пустом месте. Началось с колонизации, потом велась борьба за рынки сбыта, углеводороды и, наконец, за мировую гегемонию во главе с США. Что касается собственно ближневосточного региона, то здесь уместно привести мнение российского исследователя А. Арешева [2015. С. 16]: «Не отрицая объективных внутренних причин радикализации социумов многих стран Ближнего Востока…, от исторических до природно-климатических, не следует забывать, что так называемый “международный терроризм” на протяжении десятилетий был эффективным инструментом реализации геополитических интересов ряда государств и транснациональных структур».
Аналогичные выводы правомерно сделать и в отношении Центрально-азиатского региона, в том числе Афганистана, нашего ближайшего соседа.
После распада СССР на среднеазиатском постсоветском пространстве возникли пять новых независимых государств – Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан и Республика Туркменистан. Три последних государства имеют общую границу с Исламской республикой Афганистан (ИРА), и их население также исповедует ислам. По мнению экспертов, ситуация в ИРА ухудшается. Начиная с 2001 г. антиправительственные исламистские вооруженные группы, входящие в некогда единое «Движение талибан», контролируют большую часть территории страны.
Как ухудшение обстановки в Афганистане может сказаться на обстановке в странах ЦА? Существует ли опасность появления на их территории боевиков «Исламского государства», способных дестабилизировать ситуацию, как об этом пишут некоторые СМИ?
И по первому, и по второму вопросу высказываются неоднозначные мнения. Часть специалистов-востоковедов из СНГ, анализируя ситуацию в ИРА, полагает: «В ходе вероятного обострения военных действий государства Центральной Азии не подвергнутся непосредственной угрозе со стороны основных отрядов АВГ (антиправительственные вооружённые группы)… [Они] не намерены сейчас идти на север или запад за пределы Афганистана, атаковать государства Центральной Азии... до тех пор, пока боевики не установили полный контроль над прилегающими к странам Центральной Азии афганскими провинциями. Вместе с тем нельзя исключать ограниченных атак со стороны основных отрядов АВГ, что может служить выражением недовольства политикой соседних государств и/или осуществляться по заказу спонсоров» 8.
При этом необходимо учитывать, что отряды АВГ весьма неоднородны по этническому составу. Для приграничных государств ЦА опасность представляют группировки, включающие боевиков из родственных афганцам этносов, населяющих северные афганские провинции (таджики, узбеки, туркмены).
Эксперты выделяют две основные угрозы: 1) контрабанда наркотиков через таджикскую и туркменскую границы; 2) проникновение групп боевиков, в составе которых находятся выходцы из стран бывших советских среднеазиатских республик. Количественные данные по этой теме значительно разнятся. Казахстанская интернет-газета, например, приводит такие слова итальянского автора Дж. Э. Валори: «На стороне группировки ИГИЛ воюют 10 тысяч джихадистов со всей Центральной Азии, тогда как численность исламских террористов из России в ее рядах составляет 3 тысячи человек, а количество тех, кто прибыл из Китая – … 800 человек» 9. Другое интернет-издание, ссылаясь на «замначальника ГРУ Генштаба РФ Сергея Афанасьева», сообщает, что «в Центральной Азии общая численность боевиков, присягнувших на верность запрещенному в России «Исламскому государству» (ИГ), составляет около 4,5 тысячи человек» 10. Все эти цифры представляются сомнительными, поскольку не подтверждены достоверными источниками. Кроме того, не дается объяснения, кого считают боевиками, как их посчитали и где они находятся.
В течение последних пяти лет отмечался приток молодежи государств ЦА в ряды боевиков ИГ в Сирии и Ираке. Те, кто останется в живых, вряд ли смогут благополучно вернуться на родину теми же дорогами. Добравшись до Афганистана, они попытаются перейти через афганско-таджикскую и афганско-туркменскую границы. В этих странах имеются многочисленные сторонники радикального ислама. Известны их попытки по созданию «халифата» на территории Ферганы в 90-е гг. ХХ века. Назывались и причины расширения масштабов исламизма: негативное отношение населения к авторитарному правлению, растущая коррупция, пренебрежительное отношение к нуждам народа, обширный поток изданий радикальных проповедников и перманентное использование в этих же целях социальных сетей.
«Питательная среда» для деятельности ИГ в регионе ЦА действительно существует. Главное, что отличает идеологическую составляющую руководства ИГ от других террористических группировок – акцент на социальных проблемах, а не на строгом соблюдении религиозных предписаний. Лидеры же государств региона в основном полагаются на силовую борьбу с радикалами, а не на социальную политику в области улучшения уровня жизни населения. Слабость государственных и общественных институтов особенно ощущается на фоне активной деятельности эмиссаров радикального ислама и способствует политизации ислама, в частности на периферии, где отмечается низкий уровень религиозных знаний. Исламистские проповедники умело используют промахи, ошибки, а иногда и явные нарушения законности со стороны государственных чиновников. Пропагандируя идеи справедливости и равенства, изложенные в Коране, они (проповедники) предлагают не ждать милостей от светского государства, а полагаться на волю Всевышнего и насилие. Их авторитеты разрабатывают пути к созданию структуры, альтернативной существующему государственному строю.
Негативные явления возникают и с ожидаемым наплывом беженцев. Как отмечают эксперты, «это будут не “чужаки”, а люди той же национальности, что и в соседних странах Центральной Азии. Туркменистану, Узбекистану и особенно Таджикистану… придется принять хотя бы часть беженцев. Это создаст не только социальную, но и серьезную политическую проблему» 11.
Что касается ситуации в Афганистане, то не исключено, что афганские исламисты могут, получив опору в приграничных провинциях, «прийти на помощь» идеологически и этнически близким им «собратьям» – соратникам по войне в Афганистане. «Сегодня, как и в 90-гг. XX вв., – считает известный таджикский исследователь К. Искандаров, – в числе основных угроз безопасности, исходящих из Афганистана: деятельность международных террористических групп, таких как “Исламское движение Узбекистана” (ИДУ), “Ансаруллах”, “Джун-дуллах”, “Исламское движение Восточного Туркестана” (ИДВТ), “Лашкари тайиба”, “Совет исламского джихада” (СИД) и другие. Нужно иметь в виду, что большинство иностранных боевиков – это выходцы из центрально-азиатских стран и Кавказа, и они не скрывают своих намерений вернуться домой. Это видно из видеообращений и пропагандистских роликов, распространяемых в Афганистане, в частности, членами “Ансаруллах”» 12.
Командующий войсками США в Афганистане генерал Дж. Николсон недавно заявил, что около 70 % боевиков, воюющих в Афганистане под флагом ИГ, – это члены пакистанского исламистского движения «Техрик-е талибан». Их основная база расположена в агентстве Оракзай Пакистана, откуда их «выдавливают» части пакистанской армии, заставляя уходить на афганскую территорию в пров. Нангархар. Этот факт подтверждает губернатор провинции, ссылаясь на документы, захваченные у пленных и убитых боевиков, среди которых большинство, помимо представителей пакистанских народностей, составляют таджики 13.
Информация о деятельности агентов ИГ в Афганистане, публикуемая местными СМИ, вроде бы подтверждает, что пропаганда сторонников халифата с переносом ее на территорию ЦА в некоторых провинциях страны находит отклик. Отмечались даже демонстрации под флагами ИГ. Однако, скорее всего, – это проявление виртуальной солидарности с лозунгами ИГ, означающее несогласие с политикой правительства ИРА, связывающего безопасность и стабильность государства с пребыванием на его территории американского воинского контингента.
Вряд ли обоснованы ставшие расхожими утверждения некоторых СМИ о том, что все афганские оппозиционные группировки готовы маршем двинуться на просторы Центрально-азиатского региона для «освобождения» своих единоверцев и ради создания там халифата. Возможно, некоторые вооружённые группировки ради получения моральной (и / или финансовой) поддержки используют лозунги ИГ, однако сомнительно, что они смогут повести, а тем более – возглавить антиправительственные выступления.
Российский исследователь А. Князев убежден в том, что «в странах Центральной Азии и в Афганистане нет почвы для успешного распространения влияния ИГ… Даже в религиоз- ной сфере местный ислам не приемлет арабский универсализм. Суфийский и этнически обособленный ислам каждого из этносов этого региона связан с этнической же идентичностью». Он напоминает: «Попытки навязывания “чистого ислама” афганским моджахедам со стороны арабских джихадистов еще в 1980-х годах вызывали между ними конфликты вплоть до бое-столкновений» 14.
«Движение талибан», в свое время объявившее о создании «Исламского эмирата Афганистан» (ИЭА), недавно заявило, что «боевики ДАИШ присутствуют только в некоторых районах провинции Нангархар, больше их нигде нет и не будет». По словам официального представителя талибов З. Муджахида, «найти прибежище где-то еще боевикам ДАИШ талибы не позволят», а «распространением слухов о присутствии ДАИШ в других провинциях иностранные войска и афганское правительство хотят найти предлог для сохранения присутствия в стране иностранных войск» 15.
Афганское информационное агентство «Хаама пресс» передало содержание заявления ИЭА о его политике в отношении стран ЦА. В документе подчеркивалось: «…Исламский эмират Афганистан желает заверить страны Центральной Азии и их соседей, что, вопреки вражеской пропаганде, Исламский эмират не намерен вмешиваться в их внутренние дела, а также не позволит никому использовать территорию, находящуюся под его контролем, против кого бы то ни было, так как мы желаем жить вместе со всеми в атмосфере взаимопонимания» 16.
Суммируя вышесказанное, можно сделать предварительные выводы о том, что угроза для стран ЦА существует в виде вполне вероятных нарушений государственных границ группировками боевиков, нашедших прибежище в Афганистане, связанных с местной исламской радикальной оппозицией, целью которой является борьба со светскими режимами государств региона. Основные же отряды талибов, в подавляющем большинстве состоящие из этнических пуштунов, не пойдут воевать в Центрально-азиатский регион.
В этом смысле можно поддержать точку зрения А. Князева: «У ИГИЛ нет шансов добиться своих целей в Средней Азии, возможны лишь точечные теракты, попытки мобилизации сторонников на местах, со стороны возвращающихся на родину граждан стран региона… Более опасным является то, что во всех странах существует определенный мобилизационный ресурс для реализации джихадистских задач, и катализатором, вполне возможно, станут не ИГИЛ или “Талибан”, а внутренние процессы в отдельно взятых странах региона» 17. Поэтому, размышляя об опасности террористических действий ИГ в ЦА, видимо, следует определить эту угрозу как химеру, призрак.
Список литературы Химера "Исламского государства" в Центральной Азии
- Арешев А. Кто и как ведет Ближний Восток в «новое средневековье» // «Исламское государство»: сущность и противостояние: Аналитический доклад. Владикавказ: Кавказский геополитический клуб, 2015. С. 14-30.
- Вайс М., Хасан Х. Исламское государство: Армия террора / Пер. с англ. Ю. Вейсберг, Н. Нарциссова; ред. Н. Нарциссова. М.: Альпина нон-фикшн, 2016. 346 с.
- Зиновьев А. А. Русская трагедия. М.: Алгоритм, 2016. 544 с.
- «Исламское государство»: сущность и противостояние: Аналитический доклад / Общ. ред. Я. А. Амелиной, А. Г. Арешева. Владикавказ: Кавказский геополитический клуб, 2015. 226 с.
- Примаков Е. М. Россия: Надежды и тревоги. М.: Центрполиграф, 2015. 224 с.
- Foundations of the Islamic State: Management, Money, and Terror in Iraq, 2005-2010 / P. B. Johnston, J. N. Shapiro, H. J. Shatz, B. Bahney, D. F. Jung, P. K. Ryan, J. Wallace. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2016. 348 p.