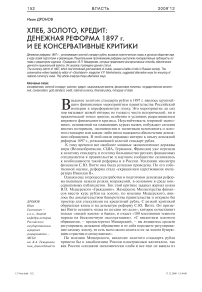Хлеб, золото, кредит: денежная реформа 1897 г. и ее консервативные критики
Автор: Дронов Иван Евгеньевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Крестьянство в России
Статья в выпуске: 12, 2009 года.
Бесплатный доступ
Денежная реформа 1897 г., установившая золотой стандарт рубля, вызвала ожесточенные споры в русском обществе еще в ходе своей подготовки и реализации. Решительными противниками реформы выступили консервативные публицисты во главе с редактором журнала «Гражданин» В.П. Мещерским, которые предложили альтернативные способы обеспечения ценности национальной валюты. Их анализу посвящена данная статья.
Консерватизм, золотой стандарт, капитал, кредит, национальная валюта, финансовая политика, государственная монополия
Короткий адрес: https://sciup.org/170164688
IDR: 170164688
Текст научной статьи Хлеб, золото, кредит: денежная реформа 1897 г. и ее консервативные критики
В ведение золотого стандарта рубля в 1897 г. явилось крупнейшим финансовым мероприятием правительства Российской империи в пореформенную эпоху. Это мероприятие до сих пор вызывает живой интерес не только с чисто исторической, но и практической точки зрения, особенно в условиях разразившегося мирового финансового кризиса. Неустойчивость мировой экономики, основанной на плавающих курсах валют, побуждает сегодня многих историков, экономистов и политиков вспоминать о золотом стандарте или каком-либо ином надежном обеспечении денежного обращения. В этой связи оправдан интерес к опыту денежной реформы 1897 г., установившей золотой стандарт рубля.
К тому времени все наиболее мощные экономические державы мира (Великобритания, США, Германия, Франция) уже перешли к золотому стандарту, и поэтому большинство русских финансовых специалистов в правительстве и научном сообществе склонялись к необходимости такой реформы и в России. Усилиями министра финансов С.Ю. Витте она была успешно проведена. По его собственной оценке, реформа стала «украшением царствования императора Николая II».
ДРОНОВ Иван
Евгеньевич – к.и.н., доцент кафедры истории Российского государственного аграрного университета – МСХА
Однако еще в процессе разработки и подготовки денежная реформа вызывала немало резких возражений, в основном в среде консервативных публицистов. Тон этой критике задавал журнал князя В.П. Мещерского «Гражданин». Намерение Министерства финансов ввести курс рубля на золото, по мнению Мещерского, явилось бы доказательством банкротства правительства и открыло бы простор для спекуляции на кредитный рубль. С резкой критикой обрушился князь и на денежную реформу С.Ю. Витте. Он призывал Витте оставить «пока не поздно это дело», которое осчастливит только «людей золота» и банки, и отдаст «100 миллионов темного народа на бесконечную эксплуатацию». «С введением золотого обращения, – предостерегал Мещерский, – вы лишаетесь средств регулировать денежное обращение и от себя передаете регулирование самому золоту, то есть всем около золота и из-за золота бушующим страстям и спекулянтам».
По мнению Мещерского, введение золотого стандарта рубля привело бы к закабалению России иностранным капиталом, так как Россия «слишком экономически слаба и все еще не вышла из неумелого и непрочного положения недо-носка»1. Поэтому «в день принятия мер к введению золотой валюты начнется неравный бой между двумя воюющими сторонами, – между министром финансов, с его усилиями поддерживать золотое обращение, и между всеми банкирами мира – это русское золото изъять из обращения в России и перевести за границу». Исход этой борьбы заранее предрешен вследствие того, что «золото в стране с фиксированными курсами будет всегда предметом вожделения для стран с свободным курсом, а потому всегда будет уходить из первой в последние».
Многолетние усилия обеспечить рубль золотым содержанием, считал князь, привели только к обременению России внешними займами. При этом экономический ущерб не исчерпывается «разорительными платежами», но выражается «нравственно, в виде доказательства недоверия правительства к своим внутренним обязательствам и к своим собственным, государственным производительным силам», что оборачивается хозяйственным застоем. Между тем, утверждал Мещерский, «Россия может покрывать все расходы правительства в самых широких размерах, если оно… свой собственный кредит, и кредит торговый, и кредит промышленный, начнет очевидно для всех и твердо основывать на внутренних займах». Вместо установления разорительного для государства золотого обеспечения князь рекомендовал, «когда нужны деньги, поступать казне так: выпустить столько, сколько нужно кредитных билетов». Проблемы инфляции и поддержания курса рубля вследствие подобной финансовой политики, по его мнению, возникнуть не могли. «Выпуск кредитных билетов есть внутренний заем, основанный на историческом и несокрушимом доверии народа и государства к Своему Государю! – уверял Мещерский Александра III. – Жжем ли мы кредитные билеты или делаем мы их, где Европе это знать и проверять. Главное, чтобы в России не было застоя в нуждах и в промышленной жизни»2. Мещерский был убежден, что для стабильности курса бумажного рубля вполне достаточно авторитета самодержца, подкрепленного патриотическим самосознанием предпринимательского сословия. В программе поддержания курса рубля, настойчиво выдвигаемой Мещерским, явственно преобладали административные меры.
Однако на невозможность управлять экономическими процессами мерами принуждения и устрашения неоднократно указывали оппоненты князя. «Упал курс нашего рубля и никак не хочет поправляться, – писал обозреватель журнала «Русское слово» Н.В. Шелгунов. – “Гражданин” предлагает воспретить вывоз за границу кредитных билетов, изъять из обращения посредством замены старого образца новым кредитные билеты, воспретить пересылку по почте в рекомендованных и ценных пакетах всяких денежных знаков, ограничить выезд и пребывание за границей без научной цели всех русских, а эмиграцию преследовать военно-уголовным судом, как измену государству». По мнению Шелгунова, все эти «чудодейственные» рецепты Мещерского выходили за пределы реальности, так как «приказать полтине быть рублем нельзя», а «“бумажку” никаким магическим словом не превратишь в серебряный рубль».
Однако меры, предлагаемые консерваторами (в конечном итоге речь шла об установлении системы неконвертируемости рубля), над которыми иронизировал Шелгунов, никогда не были применены русским императорским правительством ни в комплексе, ни по отдельности, и об их эффективности можно судить только умозрительно. Кроме того, Мещерским предлагались и другие средства поддержания курса рубля. В частности, он указывал на необъятные трудовые ресурсы России. Надежным обеспечением национальной валюты должны служить и громадные природные богатства страны и уже созданные в течение столетий многими поколениями русских людей материальные ценности. «Надо начать с главного, – писал князь, – с составления самого точного инвентаря всем ценностям, недвижимым и движимым, России», чтобы весь мир знал, чем она богата. Благодаря этому, по убеждению Мещерского, отпадет необходимость в иностранных займах на поддержание золотого стандарта.
Борьба с понижением курса рубля, считал Мещерский, не должна быть навязчивой идеей в финансовой политике правительства. Экспортные отрасли только выигрывают от понижения курса национальной валюты. «Даже низкий курс нам выгоден как условие, при котором сильно увеличивается наш сбыт за границу хлеба и сахара», – считал Мещерский. Тогда как «возвышение нашего курса будет долгое время огромным злом для нашего хлебо-производителя». Иными словами, именно интересы экспортеров сельскохозяйственного сырья побуждали князя выступать за бумажный, «слабый» рубль, делавший продукцию помещичьих хозяйств более конкурентоспособной на внешних рынках, судьба остальных отраслей народного хозяйства и других групп населения его в данном случае занимала очень мало.
Мещерский предложил идею о введении своего рода «поземельной» или «хлебной» валюты в глобальном масштабе взамен золотого стандарта, который, по его мнению, служил лишь увековечению гегемонии промышленно развитых держав и международной финансовой олигархии. Господство финансового капитала, спекулятивного и паразитического, закабаляет и истощает главные производительные силы – человека и землю. Поэтому необходима конкуренция международного кредитного денежного знака, обеспеченного землей, который должен служить для земельной промышленности тем же двигателем, каким служит золото для заводской и фабричной промышленности. «XIX век работал для капитала, и земля работала для него; XX век призван работать для земли и против капитала». В качестве первого шага к установлению «хлебного» обеспечения рубля Мещерский предлагал ввести государственную монополию на хлебную торговлю, какая существует, например, на денежную эмиссию, учитывая, что Россия – это колоссальное земледельческое царство, где хлеб выступает таким же регулятором торговых и кредитных отношений, каким в Европе выступают деньги1.
К сожалению, оригинальные и смелые идеи Мещерского в конце XIX в. не вызвали интереса в правительстве, общественное мнение реагировало на них насмешками, а личные обращения князя к С.Ю. Витте никаких последствий не возымели. Между тем, если заменить в рассуждениях Мещерского слово «хлеб» на слова «нефть», «газ» или «энергоносители», то они сразу приобретут весьма современное звучание. Впрочем, и хлеб далеко не утратил своего стратегического значения в экономике и, наряду с «черным» и обыкновенным золотом, наряду с мощной энергетикой России, вполне мог бы послужить надежным натуральным, а не виртуальным обеспечением национальной валюты.