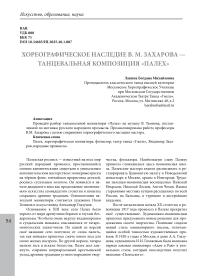Хореографическое наследие В.М. Захарова — танцевальная композиция «Палех»
Автор: Лапина Б.М.
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Искусство, образование, наука
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
Проведён разбор танцевальной миниатюры «Палех» на музыку В. Темнова, поставленной по мотивам русского народного промысла. Проанализирована работа профессора В.М. Захарова с целью сохранения хореографического наследия мастера.
Палех, хореографическая миниатюра, фольклор, театр танца «Гжель», Владимир Захаров, народные промыслы
Короткий адрес: https://sciup.org/170209176
IDR: 170209176 | УДК: 008 | DOI: 10.34685/HI.2025.48.1.007
Текст научной статьи Хореографическое наследие В.М. Захарова — танцевальная композиция «Палех»
Палехская роспись — известный на весь мир русский народный промысел, прославившийся своими каноническими сюжетами и уникальным исполнительским мастерством: темперные краски на чёрном фоне, тончайшая прорисовка деталей, роспись сусальным золотом. Он появился в начале двадцатого века как продолжение иконописного искусства семнадцатого столетия и попытка сохранить древние традиции. Основателями палехской миниатюры считаются художник Иван Голиков и искусствовед Александр Глазунов.
Основанное в XIII веке село Палех было укрыто от мира дремучими борами и глухим бездорожьем. Что было очень на руку владимирским и суздальским монахам, спасавшимся от татаромонгольских захватчиков. По одной из версий своё название село получило от слова палить, так как монахам пришлось сжечь много леса для своих жилых построек. По другой версии, татары палили леса и искали богатства. Палех жил замкнуто, сохраняя патриархальный крестьянский уклад, древние традиции устного народного твор- чества, фольклора. Наибольшую славу Палеху принесла сложившаяся здесь иконописная школа. Палехские мастера ездили расписывать и реставрировать Грановитую палату и Новодевичий монастырь в Москве, храмы в Новгороде. Трудами палешан-иконописцев восхищались Николай Некрасов, Николай Лесков, Антон Чехов. Иконы стараниями местных купцов расходились по всей России, на Балканы, в турецкие и австрийские владения.
После катаклизмов начала ХХ столетия и революции 1917 года промысел в Палехе прекратил своё существование. Художникам-иконописцам пришлось придумывать новые решения для продолжения своего творчества. Палешане создали новый стиль миниатюрного письма, отличающийся особой тонкостью художественных приёмов. В 1920-х годах в Москве, в доме А.А. Глазунова, художником И.И. Голиковым была написана первая лаковая миниатюра «Адам в Раю» в уникальном стиле, который впоследствии получил название «Палехского».
Сто лет тому назад, в декабре 1924 года, в Палехе была организована «Артель древней живописи» по росписи изделий из папье-маше. Её учредителями стали Иван Голиков, Иван Баканов, Александр Котухин, Иван Вакуров, Иван Марки-чев, Иван Зубков. Бывшие иконописцы не отказались от привычной для них техники письма яичными красками и творёным золотом и сохранили характерную для иконописи условность форм. Искусство лаковой миниатюры принесло Палеху мировую славу.
Изделия «Артели древней живописи» очень приглянулись новому советскому руководству, тем более интерес к уникальному промыслу охватил ряд стран Западной Европы. А это был весьма перспективный и выгодный с точки зрения экономики способ развития культурного наследия. На всемирной выставке в Венеции палехское искусство произвело фурор, посыпалось очень много заказов. А в 1925 году на Всемирной выставке декоративных искусств в Париже «Артель древней живописи» получила гран-при.
Мастерам даже было предложено переехать в Венецию, где им обещали создать наилучшие условия для творчества. Но художники не захотели никуда переезжать и остались верны своим корням и своей стране.
Сегодня палехская миниатюра во всём мире признаётся вершиной художественного творчества. Роспись раскрывает исконные русские традиции и знакомит с ними миллионы людей по всему свету. Так церковные сюжеты превратились в красочные миниатюры, украшавшие предметы домашней утвари, которые высоко ценятся и составляют значимую часть мирового культурного наследия.
Отличительной чертой палехских мастеров была работа с папье-маше и темперной живописью. То есть сначала художники выполняли работу на вспомогательном материале, а затем переносили её на настоящее изделие. Чаще всего в росписи использовали вариации коричневого, оранжевого, синего или зеленого цветов. Для фона применяли золотой оттенок, им же расписывали пробелы одежд и других деталей миниатюр. Особое внимание уделяли сложной композиционной структуре, которая выстраивалась по специально разработанным канонам: в центре всегда должна была изображаться главная фигура сюжета, а остальные элементы соединяться с ней с помощью художественных элементов. С разви- тием промысла стали появляться и другие, не церковные образы. Художники изображали природу, сюжеты из городских легенд…
Палехская роспись считается одним из сложнейших видов живописи, аналогов которой нет в мире. Отечественные мастера работают в уникальной и очень кропотливой технике, которая требует определённой выучки и знания древних традиций. Они используют особые виды материалов, например, расписывают изделия только тонкими беличьими кисточками — лампензелями, где волосок должен соответствовать другому волоску один в один. Не каждый беличий мех годится для изготовления тончайших кистей. Для палехских творцов было характерно использование сложнейшей техники плавей. Это особый способ письма, применяемый в иконописи. Он заключается в наложении нескольких слоев прозрачной краски на определённую область изображения, что позволяет смягчить переходы от одного цвета к другому.
Сегодня изделия из Палеха составляют важную часть мирового художественного наследия. Промысел продолжает активно развиваться, при этом современные мастера следуют традиции предков, что позволяет сохранять самобытность этого искусства и вдохновлять им миллионы людей по всему свету.
К сожалению, на рубеже ХХ–ХХI веков большая часть исконно народных промыслов медленно умирала. Это можно объяснить сумбуром и сумятицей 90-х годов, экономическим положением страны в целом. Вместо 200–300 человек на художественных предприятиях теперь работало от силы 20 художников. И это были настоящие подвижники, фанаты своего дела. Они не получали заработной платы, работали безвозмездно, были готовы делиться своими знаниями с молодёжью. Но молодёжь интересовалась тогда совсем другим. И этим немногочисленным людям, сохранившим для нас в тяжелейших условиях жизни своё искусство, мы должны быть благодарны сегодня в первую очередь.
Владимир Михайлович Захаров впервые в России поставил своей задачей воплотить в танце фантастическую красоту народных промыслов, тем более, что постепенно в стране стал возрождаться интерес к своим истокам, к корням. Он создал театр танца «Гжель», что было как никогда своевременно и являлось по сути одним из спасительных шагов для сохранения будущего нашей культуры.
Творческую направленность театра определила идея рассказать зрителям средствами искусства об интересных явлениях народного быта, обычаях, традициях, народных промыслах, о богатстве духовной жизни народа, о выдумке и фантазии русских умельцев, их врожденном чувстве прекрасного. Не случайно театр танца был создан к 650-летию существования одного из самых известных и узнаваемых исконно русских промыслов — «Гжель».
Вот как рассказывал Захаров о себе: «если поделиться своими личными секретами создания репертуара театра танца «Гжель», то я могу сказать, что стремился найти его неповторимое творческое лицо, чтобы коллектив был не похож ни на какой другой. Тем более в столице, где создавать что-то новое всегда сложнее. Нужно было побороть установившийся стереотип исполнения и содержания русских танцев»1. После долгих раздумий ключ был найден! Ведь грани народного таланта, его творческий дух, его мастерство неизменно воплощаются в народных художественных промыслах.
Но в данном случае Гжель — это собирательный образ русской красоты, русской культуры и русских традиций. В.М. Захаров навсегда вошёл в историю хореографического искусства как первооткрыватель совершенно необычного и нового направления — в его хореографических миниатюрах на сцене посредством языка танца оживали такие известные и знакомые всем картины: Гжель, Хохлома, Павло-посадские узоры, Финифть, Дымковская игрушка, Палех.
Данная статья посвящена анализу хореографической миниатюры «Палех». Идея постановки этого танца была навеяна прекрасной мелодией Виктора Темнова и словами Олега Левицкого «Где живёт твоя тайна, Палех?». Необыкновенный вокал солистов-певцов, женщин и мужчин, в сочетании с добрым сказочным текстом, в обрамлении волшебной музыки оркестра народных инструментов, которая течёт и переливается — неудивительно, что Захаров захотел сочинить под эту музыку и песню свой танец. Музыка «Палеха» настолько дансантна по своей сути, что даже у людей, далёких от искус- ства танца, вызывает совершенно правильный двигательный импульс. То есть никогда ранее не танцевавшие интуитивно начинают плавно двигаться, и движения эти настолько похожи на хороводный шаг, что это, конечно, совершенно удивительно. Безусловно, текст песни сыграл в этой постановке огромную роль. Привожу его ниже в сокращении, чтобы читателю было понятнее, о чём идёт речь.
Где живёт твоя тайна, Палех,
Тайна вечной твоей красоты?
Как жар-птица, за дальние дали
Улетает на крыльях мечты.
Тайна моя — в золотой ниве,
Тайна моя — в звёздном диве, В первой любви, которую ждёшь, В синих озёрах и рощах зелёных,
В наших с тобою словах затаённых,
В сердце твоём и моём, в сердце твоём и моём. Где живёт твоя сказка, Палех,
Про волшебные чары твои?
Чтобы люди счастливее стали
И поверили в силу любви.
Сказка моя — в золотой ниве,
Сказка моя — в звёздном диве,
В первой любви, которую ждёшь,
В синих озёрах и рощах зелёных,
В наших с тобою словах затаённых,
В сердце твоём и моём, в сердце твоём и моём.
Испокон веков, песни, под которые исполняют хороводы, имеют различное содержание и тематику. По песне определяется тема и содержание хоровода. В хороводных песнях существуют темы труда, воспевания природы, любви парня и девушки, семейные и т.д. Движение хоровода, его рисунок или игровые моменты всегда исходят из конкретного содержания песни, сопровождающей хоровод. Содержание это влияет на построение хоровода, позволяя отнести его к тому или иному виду. Исходя из содержания песни, хороводы, с точки зрения хореографии, делят на две основные группы, на два вида — орнаментальные и игровые. Палех скорее относится к орнаментальному хороводу, тут нет явного игрового сюжета, хотя есть много различных персонажей2. Бессменный соратник и соавтор многих постановок Захарова, Валентина Ивановна Слыханова, рассказывала, что помимо музыки Захаров вдохновился рисунками на двух красивых палехских шкатулках, где из необычного было то, что изображённая группа людей на одной из них была как будто бы запечатлена в остановившемся мгновении танца. Валентина Ивановна подтвердила, что Владимир Михайлович попытался воспроизвести даже позы с рисунка шкатулки. Вот цитата:
«Говоря о конкретном направлении, моём пожелании работать, пробовать и творить смелее, создавая хореографию по мотивам сюжетов на тему народных промыслов, хочется подробнее остановиться на отражении этой темы в разнообразии жанров.
К примеру, остановимся на самом популярном из них — хороводе.
Как обычно, наблюдаем выход девушек, исполняющих различные плавные ходы в разных рисунках и направлениях. Зачастую это просто безликие номера с банальными проходками в кругу и линиях.
А если каждый, живя в своей местности, загорится идеей посвятить номер хороводного плана какому-либо из местных ремёсел или промыслов? Стоит познакомиться с технологией производства, рисунком вышивки и орнамента льняных полотенец или кружев, разновидностями плетения корзин или сувенирных сундучков, характерных лишь для этого промысла, и появятся отдельные краски, нюансы, движения рук, характерные только для этого производства и раскрывающие содержание и образы, присущие только этой местности за счёт оригинальных приёмов и замысла. Появляется традиционный хоровод, но в современном звучании, в гармонии с интересным сюжетом и оригинальным исполнением»3.
«Допустим, остановились на каком-либо конкретном народном промысле. Надо его искренне полюбить и проникнуться внутренним душевным теплом, которое пробудит необходимое ощуще- ние вдохновения. Появится постоянная потребность фантазировать. Но любая фантазия должна иметь почву, основу, определённые знания о происхождении данного ремесла, особенностях процесса изготовления вещи и характере её производства. Самое главное в знакомстве с любым народным промыслом — это познание человека, который выполняет работу и создаёт уникальные изделия, человека-творца, талантливого, красивого, человека с доброй душой и сердцем. Поэтому и сами изделия наполнены особой энергией, навеянной своеобразным колоритом и красками родной природы, говорящей своим родным языком, порою — местным говорком. Они отличаются удивительными рисунками и орнаментами, изобилуют чувством юмора, наполнены большой мудростью в решении созданных образов»4.
Его хореографическая миниатюра «Палех» полностью соответствует его мыслям и начинается с такой живописной картинки. Мы видим несколько групп танцовщиков и танцовщиц, замерших в определённой композиции — это ведущая пара солистов, 6 пар Бояр, 6 пар «Тайны», 6 пар «Сказки» и женский кордебалет «Озеро» на заднем плане. Как палехская шкатулка с рисунком! Все они отличаются друг от друга и позами, и костюмами. Весь сюжет заложен в словах песни — о первой любви, о родной природе, всё это закладывали в свои изделия мастера Палеха. Группа занимает всё пространство сцены, по центру на переднем плане главные герои — Царевна и Царевич, которые стоят в пол-оборота к друг другу, раскинув вытянутые руки в характерном русском жесте, который может означать в данном случае и радость встречи, и приветствие, и взаимную симпатию, и душевное устремление. Взгляды их направлены к зрителю, в зрительный зал. На первые несколько тактов вступления главные персонажи тянутся друг к другу, их руки практически соединяются в приветственном жесте, и с первыми словами запева они начинают расходиться, четыре шага на зрителя, с душой, устремленной вперёд, и далее как будто обходят свои владения по маленькому кругу, Царевна — по часовой стрелке, Царевич — против. Все перемещения происходят традиционным танцевальным шагом, чередуя простые хороводные шаги и переменный шаг. Движения рук у Царевны напоминают крылья лебёдушки, у костюма Царевны очень широкий рукав — когда танцовщица поднимает руки вверх, рукав красивой драпировкой свисает вниз. Движения руки подчёркиваются движением ткани, что придаёт каждому жесту определённую амплитуду. Про костюмы «Палеха» обязательно будет рассказано ниже, вообще отношение В.М. Захарова к костюмам достойно отдельного описания. На соло певца про тайну Палеха оживает группа слева, которую Захаров называл Тайной. Это шесть пар юношей и девушек, стоящих по кругу. Девушки в кокошниках, стоят в лёгком отвороте от парней, положив руку на левое плечо. А молодые люди стоят подбоченившись и поглядывают на своих партнерш. Когда в песне звучат слова о первой любви, Царевич целомудренным жестом берет Царевну за руку и проводит её, любуясь её красотой. Когда в словах песни мы слышим текст про сказку, то постепенно оживают группы Бояр и Сказка. Бояре в дорогих костюмах, с настоящими мехами. В руках у Боярынь платки, неизменный символ русского танца. Их позы источают уверенность в себе и могущество, свободу и силу. Группа Сказка вся была выстроена так, что каждая пара стояла в своей определённой картинке. Где-то девушка шепчет милому на ушко, где-то парень сидит на колене, а девушка склонилась к нему, где-то пара стоит приобнявшись. Вся эта композиция выглядит очень необычно, так как костюмы у танцоров одинаковые, а позы разные. Парни и девушки медленно обходят кругом друг друга, держась за руки, опущенные вниз — как будто здороваются или присматриваются. А в это время мимо проплывает пара Царевны и Царевича, как бы обходя свои владения и свой народ. Жесты девушек нежны и волнительны, они воплощают в себе всю целомудренность и чистоту, так свойственную историческому русскому образу. Пока группы Бояре и Сказка как будто просыпаются и все их движения неторопливы и плавны, у пар Тайны танцевальные ходы и рисунки начинают развиваться. Их па отсылают нас к русским народным игрищам и праздникам, где молодёжь отдыхала и веселилась: встречаются и элементы мужского и женского хоровода, лёгкая полуприсядка у парней, обводки, dos-a-dos, шен. Пары даже изображают игру в ручеёк, подныривая под воротца из рук. Танец, игра и песня в хороводе неразрывно и органично связаны между собой. Очень точно говорят в народе про эту связь: «Песня, игра и пляска в хороводе неразлучны, как крылья у птицы». У группы Озеро вся хореография построена сначала на статичных port des bras, у девушек сарафаны в пол нежно-зеленовато-голубого цвета из лёгкой и струящейся ткани, и тоже очень длинные рукава, играющие переливами волн. Потом девушки на низких полупальцах плывут через центр сцены, как бы омывая собой всех влюблённых. Девушки ходят в хороводе плавно, торжественно, у них плывущая поступь, сдержанная, спокойная строгость в движении, осанке, взгляде. «Идёт и головой не тряхнёт», т.е. не повернёт головой ни вправо, ни влево, можно сделать лишь поворот в сторону вместе с корпусом5. Тут могут прийти в голову разные ассоциации — Чудо-озеро, полноводная сибирская или любая другая среднерусская река, ласковое море. В зависимости от состава, девушек-Озёр могло быть и 10, и 12, и даже 14. Там Захаров предпочитал видеть высоких и фактурных танцовщиц, одну к одной.
Владимир Михайлович всегда отбирал себе в коллектив красивые лица. Особенно это касалось девушек. Лицо должно было быть не просто красивым настоящей канонической красотой, сценичным, но ещё и органично смотреться в русском кокошнике. Поэтому, все его артисты на сцене выглядели действительно сошедшими с картин царевнами, царевичами и писанными красавицами.
Хореографически у девушек Озера вся пластика построена на хороводном шаге, рисунках и port de bras. Думаю, что хореограф сознательно так построил их задачу — держась довольно отстранённо от танцующих пар, у которых мы можем подразумевать сюжетную фабулу, они тем не менее, создают фон и рисунок. А в конце миниатюры, девушки вместе со всеми остальными исполнителями повторяют одинаковые проходки — и в этом заключается кульминационное развитие номера — у всех таких разных по группам, по отношению друг к другу, по костюмам героев есть общая танцевальная часть.
Группа Бояре — в зависимости от размеров площадки для выступления, их могло быть как 3 пары, так и 6. Практически всё время эта группа находится по центру сцены, сразу за солистами. Бояре одеты в богатые зимние костюмы разных цветов, с различными украшениями. В этом, я думаю, тоже была определённая задумка художника — выделить их внешне. На их богатых расшивкой бархатных платьях и кафтанах нет ни одного повторения рисунка вышивки. Здесь тоже по задумке В.М. Захарова всегда ставили высоких и статных парней и девушек солистов. Подразумевалась определённая стать — и в походке, и в позах, и в жестах, и в отношении. Начало своего танцевального кусочка Бояре-мужчины держатся чуть позади своих женщин, всячески выказывая им своё уважение. Это проявляется в широко раскрытых руках, зеркальных партнерше. Вторая рука кулачком прижата к поясу их богатых и роскошных кафтанов. Далее исполняется несколько обводок под мужскими руками, парни в это время исполняют припадания, а девушки кружатся. И всё это с чувством собственного достоинства — девушки ровня своим мужчинам. Далее, одной рукой держа партнёршу за руку, а другой придерживая за талию, пары Бояр перемещаются по сцене, меняя рисунки и меняясь местами, чтобы перед музыкальным проигрышем поклониться поясным поклоном своей паре. Примечательно, земной поклон делают друг другу и солисты, и группа Тайна. Затем у Бояр есть очень эффектная диагональ, где каждая из Боярынь взмахивает своим кружевным платком на определённый музыкальный акцент, затем эта группа возвращается на центр сцены для финала номера.
У группы Сказка хореографический текст более разнообразен: встречаются простые удары рукой о колено поднятой ноги и присядки у парней, девушки как бы заплетают косичку, входя в одну линию с разных сторон с поворотом корпуса и пригласительным жестом протягивая руку каждой следующей танцовщице. Много обводок и dos-a-dos в парах, партнёры много держатся за руки, руки меняются и перехватываются достаточно активно. Но мы не видим эту технику — акцент сделан на отношения внутри этой группы. Очень обходительные молодые люди, очень уважительные и многозначные жесты их раскинутых рук. Очень скромные и стеснительные целомудренные девушки. Все это вполне читается в пластике Сказки.
С точки зрения технической сложности номер «Палех» достаточно простой. Но в этой кажущейся простоте и заключается вся сложность определённого стиля, положений рук и головы, достаточно партерной работы ног (за исключением некоторых движений), и определённого внутреннего наполнения. Здесь нет места ужимкам и гримасам, здесь история про другое: светлые и одухотворённые лица, влюблённые друг в друга и в то, что делают на сцене сами актёры. Всё как бы в дымке, во флёре. В тайне. Когда в песне поётся про влюблённые сердца, Царевич обнимает Царевну и прижимает её руки к своему сердцу. Но во всём этом лишь намёк, остальное доделывает зрительская фантазия. Моё личное мнение, что успех этого номера в показанной на сцене чистоте — чувств, любви и отношений. Сам Захаров писал о сочинении подобных композиций: «Что касается самой композиции, рисунка движений — то всё должно быть подчинено, в первую очередь, замыслу хореографа, сюжетной линии, где, конечно, особенно ценным будет найденный постановщиком рисунок или приём, но он должен исходить из образа самого народного промысла или образа, символически раскрывающего этот промысел. Рисунок — не ради рисунка, приём — не ради приёма. Здесь необходима находка — «изюминка», которая вызовет у зрителей особый интерес и душевное соучастие. Самим же исполнителям легче будет искать свой вариант исполнения, собственный подход к созданию сценического образа, так как есть на что опереться, добавляя при этом каждому из них только им присущие, неповторимые черты и нюансы в создании самой манеры исполнения и образа в целом.
Исполнителям будет интереснее работать над созданием конкретных образов: понятно содержание, легче вместе с хореографом-постановщиком искать лексику танца, добавляя к актёрскому мастерству какие-либо нюансы в манере исполнения. Движения рук, которые играют очень большую роль в создании любого сценического хореографического образа, также будут активно помогать в поиске необходимой, своеобразной манеры исполнения. И у каждого исполнителя будет свой поиск, своё решение, и каждый из танцующих преподнесёт текст и содержание образа по-своему: и как танцовщик, и как актёр. В сюжетном танце это неразрывно взаимосвязано и гармонично.
Хотелось бы особо отметить костюмы «Палеха». Они действительно роскошны. В костюме Царевны можно опознать образ русского царственного облачения XV–XVII веков. Данный костюм состоит из богато украшенного парчового летника, расшитого золотом, драгоценными камнями и кокошника, с жемчугами, золотой вязью и покрывалом из нежной кисеи. На ногах у танцовщицы лёгкие золотистые туфельки на каблучке. Царевич одет в типичный праздничный царский наряд того времени: охровый кафтан, сшитый из дорогой качественной парчи, и расшитый золотом под стать Царевне, атласный кушак, служащий подобием пояса, царский головной убор и сафьяновые сапоги на невысоком каблуке с загнутыми носами. Костюмы главных героев выделяют их сразу же, они абсолютно гармонирует друг с другом. И они абсолютно узнаваемы — перед нами действительно Царевна и Царевич!
Бояре одеты в богатые кафтаны — охабни и ферязи. Охабень был известен на Руси середины XIV века и шился из самых дорогих на ту пору тканей — парчи, объяри, камки и бархата. Не удивительно, что носили его в основном представители высших сословий, например, бояре. «Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом, всякий встречный человек меньшего чину по костюму видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю», — пишет историк Владимир Ключевский.
Костюмы бояр у Захарова решены в тёмных тонах — синий, фиолетовый, тёмно-вишнёвый, коричневый. Но костюмы так богато расшиты, что абсолютное ощущение богатства, многослойности и многосложности убранства не покидает зрителя. Все кафтаны подпоясаны чашниками с украшениями. На головах у наших Бояр не горлатные шапки, в них танцевать неудобно, а мурмолки — шапки с плоской тульей из алтабаса, бархата или парчи, с меховой лопастью в виде отворотов, которые спереди пристегивались к тулье петлями и пуговицами. Мурмолки украшались иногда запонкой с жемчугом и белым дорогим пером. В старину мужские шапки делали с бархатным верхом яркого цвета конической или округлой формы, но обязательно с меховым околышем. Опушка из дорогого меха или даже наушники были отличительным признаком княжеских шапок.
Боярыни тоже одеты в великолепные костюмы — нижние шёлковые рубахи, верхние платья-шубки из жаккарда или тафты, богато расшитые оплечья. Также можно сказать, что в традиционном русском костюме оплечья и зарукавья носили роль оберегов, прикрывающих важные части тела. Зарукавья — дополнительные детали костюма, щедро украшенные металлами и дорогими камнями. На всех девушках шапки с меховым околышем, причём меха всегда были натуральные — соболиные — на этом настаивал сам Захаров.
Парни Тайны одеты в синие шёлковые рубахи с красным расшитым оплечьем и в красные шаровары. На головах у них лихие молодецкие шапки. А на девушках кораллово-розовые сарафаны с епанечкой (коротеной), расшитые парчовыми нитями и камнями по низу и по центру. Также, розовые с золотым кокошники, со свисающими на лоб жемчугами. Волосы прикрыты лентами кисеи, свисающей почти до пояса.
Группа Сказка решена автором в фиолетовых и оранжевых тонах. На парнях фиолетовые шапки с расписным окладом, и фиолетовые порты (штаны), и оранжевые объёмные рубахи, с фио-летово-золотым оплечьем с вышивкой. На девушках белые рубахи, фиолетовые сарафаны в пол с парчовой каймой, фиолетовые же кокошники с белым бантом из прозрачной кисеи сзади. Две ленты банта свободно развиваются, колышутся от движения.
Владимир Михайлович понимал, что большое значение в успешном результате создания интересных композиций и миниатюр на тему народных промыслов, конечно, имеет духовная связь и творческое единомыслие хореографа с художником, который изготавливает эскизы костюмов. «Из своего 35-летнего опыта работы с художниками могу заметить, что это очень важная и сложная работа. Здесь действительно необходимо, чтобы художник чувствовал и понимал замысел хореографа, как и хореограф, изучил досконально историю и характер самого народного промысла, чувствовал каждое движение ноги и руки танцовщиков, создающих определённый образ. Здесь важно всё: и покрой, и длина юбки или сарафана, и характерные краски, и подбор фактуры материалов, и индивидуальные особенности исполнителей и т.д., и т.п. А потом — одно дело создать эскиз костюма, совсем другое — скроить и сшить его. Не случайно профессионалы — художники, уважающие свой труд и любящие свою профессию, всегда стараются до конца следить за исполнением костюма в театральных мастерских. И здесь хореограф должен быть особенно внимателен и заинтересован в успешном пошиве костюмов, всегда быть рядом с художником-автором и мастерами-исполнителями в театральных мастерских. Из своего же опыта могу сказать, что где бы я ни работал, везде постоянно следил за пошивом костюмов в театральных мастерских. Особенно надо быть внимательным при изготовлении первого образца. Часто бывает так, что на эскизе всё выглядит красиво, впечатляюще, богато, а знакомство с готовым образцом крайне огорчает, так как всё выглядит иначе: фактура ткани и краски смотрятся безлико, орнамент и рисунок вышивки потеряли колорит, подбор украшений, лент, тесьмы, камней раздражают пестротой или становятся совершенно чужеродными.
Вот здесь-то и необходимы хореографу чувство вкуса, чувство контакта работы с художниками-исполнителями во имя преодоления их возможного равнодушия. Хочу обратить внимание на простую истину: надо иметь дело с художниками-профессионалами и в работе над эскизами и затем в специальных художественно-производственных мастерских. Не зря говорят, что «скупой платит дважды». В специальных театральных мастерских для пошива сценических костюмов исполнители — настоящие, высокопрофессиональ- ные мастера своего дела. Во-первых, они не будут равнодушными в работе, во-вторых, они всегда готовы на поиски, пробы, что очень важно в создании каких-либо своеобразных и оригинальных вариантов»6.
Всю глубину подхода к внешнему виду и костюмам своих артистов в этой хореографической миниатюре Захаров показал в традиционных цветах Палеха — жёлтом, оранжевом, синем, зелёном, коричневом, красном. Потому, когда открывается занавес, и зритель видит живописные группы в разноцветных одеждах, слышит название «Палех» — ассоциация с палехской миниатюрой возникает автоматически, на подкорке сознания.
Неслучайно четыре важных для традиционного искусства Руси цвета совпадают с цветами Палеха: красный, белый, синий и жёлтый — являются основными цветами, остальные оттенки получаются при их смешивании.
Национальные традиции восприятия цвета возникли ещё в мифологическую эпоху, когда цвету придавалось различное информационное и символическое значение, отличающееся от современных понятий. Синкретизм первобытной культуры сохранился в цвете материалов для одежды и украшений. В начальной стадии развития цвета отождествлялись с сущностью конкретных объектов.
Красный цвет символизировал тепло, огонь, кровь. Активный красный цвет защищал хозяина от злых сил и дурного глаза; края одежды: разрезы, застежки, низ изделия, низ рукава — «входы» — защищались или орнаментом, или вышивкой красными нитками. Радостное восприятие человеческой жизни выражается в мажорных цветовых сочетаниях материалов с использованием оттенков красного цвета. В народных вышивках преобладает вышивка красными нитками по белому холсту. Часто встречается в подлинниках одежды молочно-белый нейтральный и энергичный красный цвета, цвета молока и семени, крови и огня. Белое и красное связаны с активными состояниями, эта бинарная пара в традиционных народных костюмах преобладает, несмотря на цветовые предпочтения по различным регионам. Белое — красное, мужское — женское, два жизнеутверждающих начала, их стройная согласованность и приятное сочетание — это гармония жизни. Красный и белый были предпочтительны в одежде молодых девушек и мужчин, обязательны в костюме жениха и невесты. Красное свадебное платье невесты («Красный сарафан») символизировало солнце и огонь, дарующие благополучие и плодородие, надежду на светлое будущее.
Белый цвет как цвет молочных продуктов был одним из самых почитаемых. Белый — символ дневного света и материнского молока. Традиционно народ отдавал предпочтение серебряным украшениям, нежели золотым, с жёлтым оттенком. Этому способствовало ещё и то, что золото без примесей — мягкий материал, и на нём быстро появляются царапины. Его считали разновидностью меди и предпочитали серебро, зная о лечебных свойствах ионов серебра. Считали, что серебро имеет божественное происхождение, а золото — дьявольское.
Жёлтый цвет, третий из основных цветов, символизировал цвет Солнца, яичного желтка, мажорный цвет возрождения жизни и богатства осени. Но это цвет и чрезмерного солнца, выжженной степи, поэтому к различным оттенкам жёлтого цвета было двоякое отношение. Жёлтые золотые украшения не могли защитить хозяина, наоборот, они могли ему навредить, если их много. Желтый огонь очага согреет и позволит приготовить пищу — жёлтый огонь пожара может уничтожить всё. Цвета длинноволновой части спектра — красные, оранжевые, жёлтые — оказывают на человека стимулирующее, возбуждающее действие. В противоположность им цвета коротковолновой части спектра — голубые, синие, фиолетовые — действуют на человека успокаивающе, затормаживают все физиологические процессы.
Четвёртым основным цветом является синий — цвет неба, недоступной птицы счастья, глади глубокого озера. Этот таинственный неземной цвет, ассоциируемый с подземельным, подводным миром, также неоднозначен. С одной стороны, это враждебные силы подводного мира и русалки, с другой — синева горизонта и неба, синих гор. Этот таинственный синий цвет не мог использоваться в традиционном народном искусстве часто. Реже используются камни синего цвета и на украшениях. И в природе среди камней преобладают самоцветы желтоватых и красноватых оттенков. Краситель индиго и соперник индигоносных растений вайда долгое время были привозными и поэтому дорогими. Синий цвет могли позволить себе только немногие. Если обратиться за сведениями о цвете к устному народному творчеству, то можно заметить, что упоминание синего цвета встречается часто.
Многообразие цвета, конструкций, формы и материалов в одежде достигается различным сочетанием основных четырёх элементов: красного, белого, жёлтого и синего. Смешением основных синего и жёлтого цветов получается зелёный, оптимальный с физиологической точки зрения. Все цвета костюмов в миниатюре «Палех» очень приятны и комфортны для глаз. Все сочетания подобраны очень грамотно и органично7.
Более двадцати лет эта миниатюра сохраняется в репертуаре театра танца «Гжель». И всегда благожелательно принимается зрителем. С неизменным успехом встречают на Родине и за рубежом все постановки Захарова, посвящённые русским народным промыслам. Помимо чисто эстетического удовольствия от просмотра миниатюр, это даёт ключ к пониманию своей причастности к великому русскому искусству.