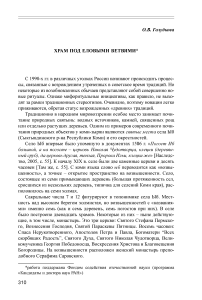Храм под еловыми ветвями
Автор: Голубкова О.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XIV, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521457
IDR: 14521457
Текст статьи Храм под еловыми ветвями
Село Ыб впервые было упомянуто в документах 1586 г « Погост Иб большой, а на погосте - церковь Николая Чудотворца, клецки (деревянный сруб), да церковь другая, теплая, Пророка Ильи, клецки же » [Наследство, 2005, с. 55]. К началу XIX в. селе были две каменные церкви и десять часовен [Там же, с. 55]. С коми языка слово ыб переводится как «возвышенность», а точнее – открытое пространство на возвышенности. Село, состоящее из семи примыкающих деревень (большая протяженность сел, сросшихся из нескольких деревень, типична для селений Коми края), расположилось на семи холмах.
Сакральные числа 7 и 12 фигурируют в топонимике села Ыб. Местность над высоким берегом холмистая, но возвышенностей с «названиями» именно семь (как и семь деревень, семь погостов при них). В селе было построено двенадцать храмов. Некоторые из них – ныне действующие, в том числе, монастырь. Это три церкви: Святого Стефана Пермского, Вознесения Господня, Святой Параскевы Пятницы. Восемь часовен: Спаса Нерукотворенного, Апостолов Петра и Павла, Богоматери “Всех скорбящих Радость”, Святого Духа, Святого Николая Чудотворца, Великомученика Георгия Победоносца, Воскресения Христова и Благовещения Богородицы. На возвышенности расположен женский монастырь преподобного Серафима Саровского.
В селе и его ближайших окрестностях возведено двенадцать деревянных крестов – рядом с почитаемыми объектами паломничества. В этой местности находится более пятнадцати источников – родников и ключей, но только двенадцать из них считаются святыми: Двенадцати Апостолов, Благовещения Богородицы, Богоматери “Всех скорбящих Радость”, Преображения Господня, Святого Николая Чудотворца, Великомученика Георгия Победоносца, Архистратига Михаила, Преподобной Параскевы Пятницы, Святого Феодосия Черниговского (по другой версии – Феодосия Тотемско-го), Монастырский источник, Храмовый колодец и “Железный” источник.
Каждый из источников имеет свою историю, свои целительные свойства. Источник Архистратига Михаила исцеляет от хромоты, остеохондроза и прочих костных заболеваний; источник Феодосия – от болезней глаз и от проказы.
По легенде, в 1941 г. жительнице деревни Кулига Евдокии Ивановне Муравьевой приснился (по другой версии – предстал наяву) Феодосий Черниговский, чтобы помочь в недуге. Когда мужа забрали на фронт, женщина осталась с четырьмя детьми, в ожидании пятого, и от нервного расстройства заболела кожной болезнью. Феодосий указал ей место, где из земли бьет ключ. После умывания женщина исцелилась. Она ежедневно умывалась и пила воду из этого источника и прожила девяносто три года, до 2001 г. (ПМА, 2006).
Местные жители рассказывают также легенду о чудесном исцелении в источнике Двенадцати апостолов в 1990-е гг. (ПМА, 2008).
С 1996 г. установилась традиция: ежегодно ко дню кончины «крестителя и просветителя зырян» Стефана Пермского (9 мая) из Сыктывкара в Ыб выходит крестный ход с иконой святителя. По преданию, Стефан на камне приплыл в Ыб по реке Сысоле и по подводному ручью Конгыр-шор против течения добрался до холма Кубри-мылык. С этой горы святитель начал свою проповедь Христа, но местные жители-язычники ее не приняли: закидали проповедника камнями и не пустили на ночлег. В свою очередь, Стефан назвал недружелюбно встретивший его народ худым, а деревня именуется Худой-грёзд. Через 500 лет в знак покаяния местные жители принесли крестным ходом из села Вотча икону святителя Стефана и отслужили на холме молебен. Собравшись всем миром, жители села в один день поставили здесь часовню, названную его именем – как символ искупления грехов предков, не принявших первого зырянского православного проповедника. С тех пор деревня стала именоваться в честь Стефана Пермского – Степановкой. Крестные ходы стали ежегодными, а икона считается чудотворной (ПМА, 2008).
Каждую первую пятницу Петровского поста в Свято-Вознесенском храме служится литургия, после которой идет крестный ход в деревню Чу-либ, где на источнике святой великомученицы Параскевы совершается водосвятный молебен. По рассказам, в начале 1980-х гг. одной парализованной старушке явилась во сне святая Параскева и показала этот колодец.
Вода в нем считалась целебной. Однако в последние несколько лет неверующие люди стали использовать святую воду не для лечения или питья, а в хозяйственных нуждах. Святая Параскева обиделась и отвернулась от своего колодца. Теперь вода здесь уже не та. Как болотная стала, лягушки прыгают. Святую воду нельзя для стирки брать. Еще вот баню рядом построили, грех это (ПМА, 2006).
В районе существует предание о Николае Мирликийском, есть и источник, освященный его именем. Якобы, около ста лет назад святой Чудотворец, облаченный в длиннополые одежды, явился мельнику Бусову, беседовал с ним и сказал: “А построй-ка мне здесь дом”, и указал место. На вопрос мельника – “Кто ты ?” – ответил: «Завтрашний день», и исчез. На следующий день был праздник святителя Николая [Наследство, 2005, с. 57].
Возле деревни Серд была часовня во имя Иконы Казанской Божьей Матери. В 1921 г. часовню разрушили; от нее остало сь лишь четыре угловых камня в лесочке. По рассказам, из бревен часовни построили конюшню, но вскоре она сгорела, а человек (Симо Осип), забравший себе для строительства бревна, ослеп. Две старушки – жительницы деревни Чулиб М.Н. Сямтомова и А.И. Конюхова – по праздникам ходили к краеугольным камням часовни читать акафист [Там же, с. 57-58].
В деревне Чулиб до революции стояла белокаменная церковь во имя великомученицы Параскевы Пятницы. На престольный праздник съезжалось много народа со всех окрестных мест – от Вятки до северных районов Коми края. Во время службы люди стояли вокруг церкви, поскольку храм всех не вмещал. После службы вокруг ограды была большая ярмарка. После закрытия храма в начале 1920-х гг. верующие женщины стали тайно собираться на празднике в одном из домов села. А в здании церкви «коммунисты в канун советских праздников варили самогон» (ПМА, 2008).
Жительнице деревни Чулиб Марии Никифоровне Сямтомовой (19042000 г.р.) несколько раз в 1990-е гг. снился сон. Снилось ей, будто она еще девочка (в то время, когда храм святой Параскевы еще не был разрушен) ночью возвращалась с девичьих посиделок и увидела свет в окнах церкви. Она залезала на каменную ограду и смотрела в окно: в храме горели все лампады и там же находились люди в черных монашеских одеяниях. Ее мама (на момент сна уже покойная) предположила, что ночью в храме служат ссыльные монахи. Но днем их никто не видел. В другом видении этой же женщины – накануне праздника – являлась сама святая Параскева в ситцевом платочке, и Мария Никифоровна расспрашивала ее, не замерзла ли она, приглашала к себе в дом. Святая Параскева говорила, что жила она здесь в своем доме, но ее оттуда выгнали и дом разрушили. Периодически являясь во сне М.Н. Сямтомовой, Параскева Пятница рассказывала, что она не хочет возвращаться в храм, потому что большевики «опоганили» это место: курили, пили, матерились, устраивали гулянки в дни советских праздников. Теперь ее домом стала ель. Этот сон старуш- ка рассказала местному священнику, отцу Георгию, после чего в первую пятницу Петровского поста на месте церкви был отслужен молебен с акафистом. Но и после этого, в ночь на Рождество Марии Никифоровне приснился сон, что ей опять двенадцать лет и она, девочка, находится возле чулибской церкви и удивляется, что храм снова стоит, ограда цела, в храме снова праздник, а вокруг – ярмарка.
Рассказы старушки о ее чудесных снах подействовали на местного священника таким образом, что он, созвав крестный ход, освятил вековую ель (фигурировавшую в видениях), растущую поблизости от места, где стоял храм святой Параскевы. Рядом с елкой был установлен крест, а на ствол дерева повешена икона Параскевы Пятницы (ПМА, 2006, 2008).
В 2006 и 2008 гг. (в момент экспедиционных исследований) эта ель представляла собой импровизированный храм. На стволе дерева прикреплена икона святой Параскевы Пятницы. Заходя под лапы елки, жители села (преимущественно женщины и дети) совершают ритуальные действия: молятся, зажигают свечи, читают акафист. При этом местные жители убеждены, что они не отклоняются от канонов православной веры. Здесь чище место, чем в церкви. Все здесь намоленное. Церковь коммунисты испоганили, а дерево – святое (ПМА: 2006). Все места у нас святые, наверное, земля такая. Елка священная, под ней святая Пятница живет, за нас, грешных, молится (ПМА: 2008). Елка-то сама покажется, если человек с чистым сердцем, с добром к ней идет. А недоброго к себе не подпустит. Там как в церкви – святое место (ПМА: 2008).
Образ Параскевы Пятницы, нашедшей приют под елью, вероятно, может являться антропоморфной проекцией самого дерева, воспринимаемого в качестве живой, одушевленной субстанции. Очевидно, жители села Ыб (скорее всего неосознанно) вернулись к традиционным для жителей лесной зоны представлениям об априорной святости дерева, под которым «чище, чем в поруганном храме». Сместился акцент почитания культового объекта: «богослужения» под елью стали проводиться под знаком креста и освященные православной церковью. Возможно, «личные» или «поселковые» священные деревья могли восприниматься как объекты, связанные с предками – родовыми покровителями, что гипотетически может соотноситься с представлениями о возможности перерождения души в древесном образе. Таким образом, на примере современного мифотворчества жителей села Ыб, проявляются архетипические моменты, связанные с традиционными верованиями о чудодейственной силе деревьев у коми-зырян.