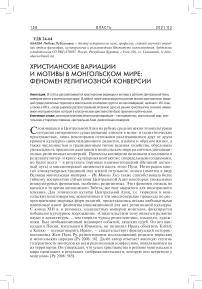Христианские вариации и мотивы в монгольском мире: феномен религиозной конверсии
Автор: Абаева Любовь Лубсановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 3, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются христианские вариации и мотивы в регионе Центральной Азии, имевшие место в монгольском мире. В работе также анализируются ранние истоки христианских традиций среди различных тюркских и монгольских этнических групп и их конгломераций, начиная с VIII-X вв., а также и XIII в., когда широкое распространение получило одно из ранних христианских течений, именуемое несторианством, которое в классическом христианстве было признано еретическим.
Раннехристианская религиозная вариация - несторианство, монгольский мир, монгольские и тюркские племена, центральная азия, религиозная конверсия
Короткий адрес: https://sciup.org/170177302
IDR: 170177302 | УДК: 24-64 | DOI: 10.31171/vlast.v29i3.8175
Текст научной статьи Христианские вариации и мотивы в монгольском мире: феномен религиозной конверсии
С ложившаяся в Центральной Азии на рубеже средних веков этнокультурная ситуация синхронного существования этносов в моно- и полиэтнических пространствах, лишь некоторыми оттенками различающихся друг от друга уровнем культурно-цивилизационного развития, языком и образом жизни, а также численностью и традиционным типом ведения хозяйства, обусловила уникальность процессов адаптации в монгольском мире различных инновационных религиозных конверсий. Процессы конверсии возникали в основном в результате интер- и кросс-культурных контактов с сопредельными социумами, но более всего – в результате торговых взаимоотношений (Великий шелковый путь) и миссионерской активности вдоль этого Пути. Интеграция многих этнокультурных традиций под эгидой титульного этноса (имеется в виду Великая монгольская империя – Их Монгол Улс ) также способствовала более гибкому восприятию субъектами Центральной Азии некоторых уникальных инокультурных феноменов, особенно, религиозных. Этот феномен отнюдь не касался в то время автономного Тибета, все еще закрытого для иностранного влияния. Для этнических культур Центральной Азии, т.е. тюркских и монгольских конгломератов, вовлеченных в эти миссионерские процессы по распространению мировых форм религий, представлялись весьма любопытными навеянные извне феномены инновационной для них религиозной культуры. С конца XIII в. в регионах, подвластных империи монголов, фиксируется небывалое культурное возрождение. «Свидетельством тому является развитие науки и архитектуры. …там творили чудеса ремесленники, писатели, художники. Был необыкновенный водоворот событий, людских судеб. Он вел кавказцев в Пекин, мусульман в Юньнань, он позволил Ирану обогатить Китай, а Китаю – оплодотворить Иран», – свидетельствует французский историк-востоковед Жан-Поль Ру, разносторонне исследовавший религии тюркских и монгольских народов [Ру 2006: 16]. Далее автор отмечает высокую степень толерантности монголов ко всем религиозным конфессиям, появлявшимся на их территории. Он утверждает, что успех христианства в регионе монгольского мира произошел в результате «доброжелательности, которую оно встретило у монголов» [Ру 2006: 565].
В результате религиозной конверсии на территориях, освоенных и адаптированных мировыми религиями, этнические культуры этносов – насельников конкретного региона, естественно, в какой-то степени меняли свою этнокультурную компетентность в целом и, конечно, этноконфессиональную ментальность в частности. Небезынтересно также отметить, что все эти процессы конверсии религиозных культур происходили в русле этнических процессов того или иного этноса, и в целом носили эволюционный характер соответственно социально-экономическим и политическим условиям меняющегося мира вокруг.
В период своего распространения несторианство практически охватило все территории, находящиеся вдоль Шелкового пути. Оно было широко распространено среди тюркских и монгольских народов Внутренней Азии: кере-итов, меркитов, найманов, уйгуров. Проникая в Китай и даже в Японию, несторианство стало самой распространенной (как по территории, так и по числу адептов) формой христианства в конце первого тысячелетия нашей эры. Тжаллинг Хальбертсма затрагивает довольно обширную историю проникновения, распространения и эволюции несторианской традиции среди китайского, тюркского и монгольского этносов во Внутренней Монголии, в современный период находящейся в составе Китайской Народной Республики как Автономный район Внутренняя Монголия. Как утверждает автор, «несторианские реликты» представляют собой великое множество «черно-белых образов», которые не всегда можно адекватно идентифицировать [Halbertsma 2008: 19; Абаева 2013: 147-148].
Известный монгольский ученый Ш. Бира в своей речи на открытии Центра монголоведных исследований А. Мостарта в Улан-Баторе сделал доклад на тему «Монголы и христианство». Он подчеркнул, что монгольские народы в ходе своей долгой и удивительной этнической истории были не только адептами буддизма, но и пытались адаптировать к своим этнокультурным и религиозным традициям и другие мировые религиозные системы. «История монголов не может быть правильно объяснена, если мы не знаем истории наших культурных и религиозных контактов и взаимодействий с другими цивилизациями. Мы должны изучать неизвестные страницы нашей истории, которые включают не только наше прошлое, но также и настоящее, и будущее» [Бира 2011: 231]. Академик Ш. Бира, ссылаясь на легенду, зафиксированную в «Хронологии» ХIII в. Б. Хебраусом, вспоминает уже почти ставшую мифологической легенду, касающуюся главы племени кереитов. Легенда гласит: «Во время охоты предводитель кереитов заблудился [lost his way] высоко в горах. Когда он потерял всякую надежду, перед ним появилось видение в виде святого, который сказал: “Если ты поверишь во Христа, я выведу тебя”. Возвратившись домой, хан спросил работающих христианских крестьян об их вере. Они отвечали, что он не получит спасения самому себе и своему племени, пока не получит разрешения и благословения от Несторианской метрополии» [Бира 2011: 184; Herbraeus 1932]. Пересказывая эту легенду, Ш. Бира выражает сомнение по поводу аутентичности ее деталей; однако она свидетельствует и отражает самый ранний период истории проникновения христианской традиции на территорию монгольских народов. При этом Ш. Бира подчеркивает, что кере-итский вождь Тогоруул Ван Хан, покровитель юного Темуджина, безусловно, был адептом христианской традиции [Бира 2011: 232].
Возвращаясь к монографии Тжаллинга Хабартсмы, хотелось бы подчеркнуть, что автор в начале своего исследования испытывал значительные трудности с аутентичностью термина «несторианизм» по отношению к Востоку. Сами представители несторианства, следуя идеям его основателя Нестория о том, что Иисус Христос был одновременно и богом, и человеком, иногда употребляли термин «церковь Востока», имея в виду несторианские религиозные традиции. Несторий (382–451), родившийся в Сирии и получивший религиозное образование в Антиохии, утверждал, что Дева Мария произвела на свет Иисуса в качестве christokos – матери Христа, а не в качестве theotokos – матери Бога, вследствие чего даже многие симпатизирующие ему последователи сочли его еретиком. «Важно здесь отметить, – пишет Т. Хабартсма, – что сам Несторий не подразумевал, что “церковь Востока” будет в последующем ассоциироваться с его именем, тем более в своей последующей деятельности опираться на его идеи» [Halbertsma 2008: 4]. Однако автор все же подчеркивает, что нет пока альтернативной терминологии «церкви Востока» вне китайской и монгольской территории во Внутренней Монголии. Возможно, у них был и есть свой адекватный термин этого религиозного феномена [Halbertsma 2008: 12]. Изначально в Китае несторианство именовалось Босы цзинцзяо ;№й (досл. – персидское учение). Однако уже в 745 г. миссионеры обратились к императору Сюаньцзуну (годы жизни 685–762, годы правления 712–756) с просьбой о переименовании вероучения, т.к. термин Босы цзинцзяо также использовался для других религий персидского происхождения – зороастризма и манихейства. Тогда несторианство было переименовано в Да Цинь цзяо лж^ (досл. – учение [страны] Дацинь, т.е. Римской империи). Однако уже в тексте Несторианской стелы 781 г. учение называется Цзин цзяо ж^ (досл. – светлое учение). Оно же было более распространено и позднее, при династии Юань. Кроме того, во время правления монгольской династии упоминается термин Еликэвэнь цзяо Шта^, который, вероятнее всего, в то время обозначал не просто христианскую религию, а именно несторианство1. Также в настоящее время несторианство называют нестоли пай ЖШяЖ^ (буквальная транскрипция латинского названия). Несторианские монастыри часто именовали Да Цинь сы *ж^ или ши цзы сы +^^ (досл. – монастырь со знаком в виде иероглифа 10; уместно и для других христианских церквей). Небезынтересен и термин именования Бога. Изначально несториане использовали буддийский термин Фо-то (№Р6, Будда). Позже в несторианских текстах стал использоваться термин И-шэнь ^ф, а после – Алохань и^х (архат)2. (Автор статьи выражает благодарность коллеге – научному сотруднику ИМБТ, синологу, к.и.н. Ч.Ц. Цыренову за транскрипцию и перевод иероглифов – терминов несторианства, отсутствующих в электронных версиях.)
Первые несторианские священники оказались в Китае еще при династии Северная Вэй, в VI в., в городе Лояне. Однако историю распространения несторианства непосредственно в Китае принято отсчитывать с 635 г., когда группа несторианских проповедников во главе с Алопеном (Alopen) прибыла в столицу танского Китая город Чанъань (современный Сиань). Проповедник удостоился аудиенции у императора Тайцзуна (627–649). Вероучение произвело благоприятное впечатление на китайского императора. Разрешение на деятельность священников было выдано в 638 г. По велению Тайцзуна на средства императорской казны в столице был построен несторианский монастырь Дациньсы. В знак своего благоволения император сделал надпись собственноручно на стене монастыря. Aлопен по поручению императора также трудился над переводами несторианских текстов на китайский язык. Позже, при императоре Гаоцзуне (649–683), Алопен был удостоен титула Хранителя царства и Властителя Великого закона [Далай 1992: 162-167]. Во время правления императрицы У (690–705) несторианство впадает в немилость, т.к. бывшая наложница императора династии Тан была адептом буддизма, вследствие чего, естественно, поддерживала распространение «своей религии», ограничивая другие. Однако уже при Сюаньцзуне (712–756) гонения прекратились. В 713 г. император приказал восстанавливать разрушенные несторианские монастыри и храмы. А в 744 г. император позволил священнику Абрахаму (Abraham), епископу Гергию (George) (кит. – Chi-Ho) и пяти монахам – адептам несторианства провести церемонию причастия при дворце брата императора. Период с 712 по 781 г. считается эпохой расцвета несторианской общины в Поднебесной. Этому также способствовали и арабские завоевания, т.к. несториане неоднократно сопровождали арабские посольства в Китай, выступали посредниками в торговле между халифатом и Поднебесной. Кроме того, в армии династии Тан было огромное число наемников, в т.ч. и несториан.
В 840 г. к власти приходит император Уцзун, адепт даосизма. Уже в 845 г. он издает указ о прекращении существования храмов еретических сект и возвращении их священников к мирской жизни. В последующее столетия еще встречались упоминания о несторианских священниках в Китае, но на несколько столетий они вышли из активной религиозной жизни Поднебесной.
Следующий этап развития несторианства пришелся на правление династии Юань. Несторианство, как уже упоминалось ранее, было распространено среди тюркских и монгольских племен. Одной из жен Чингисхана была кереитская принцесса, которая к тому же оказалась несторианкой. Ее сестра Сорхахтани стала старшей женой сына Чингисхана хана Толуя и матерью Хубилая, основателя династии Юань в Китае. В Монголии, по свидетельству тех же источников1, адепты несторианства жили скромно, однако уже в начале XIV в. новые обстоятельства изменили ситуацию. Архиепископ Иоанн де Монте Корвино писал: «Они обрели такую силу, что не позволяют прочим христианам иметь даже маломальскую часовенку, как и исповедовать никакого другого учения»2. При этом монгольская этнополитическая элита, как в Китае, так и собственно в Иране, придерживалась стратегии индифферентного отношения к феномену несторианства. Несмотря на склонность к буддизму, Хубилай-хан всегда выказывал симпатию к несторианам, а в 1284 г. даже учредил нечто вроде управления делами христианской религии. Более того, новые несторианские адепты и многочисленное клановое семейство Чингисхана поддерживали довольно тесные связи. Так, например, тюркский правитель конгломерата Онгут оказал Чингисхану в начале его карьеры замечательную услугу: он не только отказался вступить в созданную против него коалицию, но даже примкнул к Чингисхану. Последний отдал ему в жены одну из своих дочерей. Она по-женски «управляла» его племенем, воспитала трех дочерей его наложницы. Одна из них родила сына Кергюза (Георгия), который позже женился на внучке Хубилая. Подобные матримониальные связи обеспечили Онгутам и, следовательно, несторианским адептам одно из приоритетных мест в структурах Монгольской империи. Эти этнокультурные несторианские общины старались поддерживать друг с другом связь и, делая визиты, пересекали «из края в край пространство всей Великой степи». У монгольской элиты, традиционно считавшейся или шаманистами, или буддистами, возни- кает традиция брать в жены христианок, что, естественно, укрепляло позиции и влияние несторианской церкви. Однако это покровительство оказало несторианским адептам плохую услугу: на мусульманских территориях, входивших в Монгольскую империю, феномен покровительства несторианским последователям вызывал многочисленные конфликты, выразившиеся в исламской реакции в XIV в.1 Большую часть христианской общины в Цюаньчжоу в то время составляли иммигранты из Средней Азии, которых монгольские ханы приглашали на чиновничьи должности. Большинство надписей выполнено с использованием монгольского квадратного письма, которое было единым для всех народов, подчинявшихся Юаньской династии. Практически все найденные археологами в Цюаньчжоу артефакты относятся к эпохе династии Юань. Многие из них были утеряны или уничтожены во время строительства железной дороги в XX в. и во время войны с Японией [Далай 1992: 162]. В 1260 г. Хубилай переносит столицу Китая в Ханбалык (Пекин). В числе его придворных в столицу прибыли множество несторианских врачей, ремесленников и советников. Роль несторианства выросла, Пекин был объявлен митрополией несторианской церкви в Империи. Можно отметить значительную роль, которую в силу своей неуемной активности играли последователи несторианства в жизни Империи. Так, несторианин по имени Мар Сергиус (Mar Sergius) был назначен губернатором города Цзинцзяна (современный город в провинции Цзянсу). Другой несторианин Ай-се (Ai-se) был придворным астрономом и возглавлял академию Ханьлинь. Два выдающихся писателя династии Юань Ма Цзучан и Чжао Шиянь были из семей, где исповедовали несторианство еще до восхождения Чингисхана [Далай 1992: 168]. Марко Поло, оказавшись в Китае, фиксирует наличие несторианских храмов и монастырей в Ганьчжоу, в городах провинции Ганьсу, Ханбалыке (Пекин), в провинции Юньнань, а также на территории современной Внутренней Монголии КНР. В период с 1289 по 1320 г. здесь насчитывалось 72 несторианских храма2. В это же время монголы усиливали свое влияние в Персии и пытались наладить дипломатические контакты с западными странами. В рамках дипломатической миссии в Европу в Иерусалим отправляются два несторианских монаха Раббан Саума и Маркос (Rabban Sauma и Markos). Их путешествие из Пекина прошло через Ганьсу, Кашгар, Иран и закончилось в Азербайджане, где в то время располагался патриарх несторианских традиций. Прибыв туда в 1279 г., они узнали, что дорога до Иерусалима небезопасна, и решили остаться под протекцией монголов. Позже Maркос был назначен митрополитом в Империи. В настоящее время ведется достаточно активная дискуссия о степени религиозной конверсии несторианства в социумы Центральной Азии. Однако, несмотря на первоначальный успех, данная религиозная система раннего христианства так и не закрепилась среди монгольского мира и, в конечном итоге, осталась в контексте развития своего изначального носителя – ассирийского этноса. Реликты ее присутствуют до сего времени среди некоторой части представителей индийских христиан. Несмотря на свое вполне успешное начало, несторианство все же не могло рассчитывать на реальный успех: лучше организованные буддизм и даосизм на тот момент имели уже более крепкие позиции в монголосфере. На китайский язык было переведено несколько несторианских текстов, однако в церковной жизни больше использовался все же сирийский язык. Кроме того, конверсия несторианства в Империи в огромной степени зависела от личного отношения властвующего императора. Монгольские правители заигрывали и с
другими христианскими религиозными конфессиями (например, с католицизмом), и с представителями ислама. Однако после установления династии Мин следы активности несторианства и других христианских течений в монгольском мире, особенно во Внутренней Монголии, постепенно исчезают, оставив после себя многочисленные архитектурные и апокрифические памятники и письменные источники.
Статья подготовлена в рамках государственного задания «Трансформация направлений и школ буддизма: история и опыт взаимодействия с религиями и верованиями России, Центральной и Восточной Азии (с периода распространения буддизма до современности: Россия – ХVIII–XXI вв.; Китай – II–XXI вв.; Тибет – VII–XXI вв.; Монголия – ХVI–XXI вв.)», № 121031000261-9.
Список литературы Христианские вариации и мотивы в монгольском мире: феномен религиозной конверсии
- Абаева Л.Л. 2013. Несторианские раннехристианские религиозные традиции в этнокультурной истории народов Центральной Азии. - Вестник БГУ. Сер. Философия. Социология. Политология. Культурология. № 6. С. 146-149
- Ру Ж.-П. 2006. История Империи монголов. Улан-Удэ (пер. с фр. З.З. Сажиновой; отв. ред. П.Б. Коновалов, С.Ш. Чагдуров). Изд-во Бурятского государственного университета. 672 с
- Halbertsma T.H.F. 2008. Early Christian Remains of Inner Mongolia: Discovery, Reconstructions and Appropriation. Sinica Leidensia. Vol. 88. 359 p
- Herbraeus B. 1932. Chronology (ed. by E.A. Budge). First part. London: Oxford University Press
- Бира Ш. 2011. The Mongols and Christianity. Selected Papers and Documents. Шагдарын Бира. Монголын Тэнгэрийн Узэл, Mongolian Tengerism.Туувэр Зохиол, Баримт бичгуд. Улаанбаатар. 482 с
- Далай Чулууны 1992. Монголын Туух (1260-1388). Гудгаар дээвтэр. Редактор академик Н. Ишжамц. Хэвлэлийн "Эрдэм" пуус. Улаанбаатар. 217 х