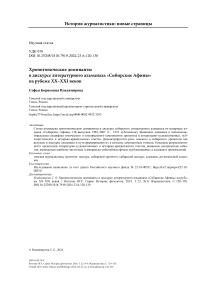Хронотопические доминанты в дискурсе литературного альманаха "Сибирские Афины" на рубеже XX-XXI веков
Автор: Владимирова С.Б.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История журналистики: новые страницы
Статья в выпуске: 6 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена хронотопическим доминантам в дискурсе сибирского литературного альманаха на материале издания «Сибирские Афины» (38 выпусков 1994-2007 гг., 1 073 публикации). Выявлены динамика и наполнение, определена специфика топического и темпорального компонентов хронотопа в литературно-художественных, публицистических и историко-краеведческих текстах. Демонстрируются роль томского и сибирского хронотопа как ведущих в дискурсе альманаха и пути формирования их в качестве доминантных топосов. Показаны ретроспективность хронотопов литературно-художественных и историко-краеведческих текстов, выявлены исторические события, являющиеся наиболее частотным темпорально-событийным фоном опубликованных в альманахе произведений.
Томская журналистика, хронотоп, дискурс, сибирский хронотоп, сибирский дискурс, альманах, региональный альманах
Короткий адрес: https://sciup.org/147244521
IDR: 147244521 | УДК: 070 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-6-120-130
Текст научной статьи Хронотопические доминанты в дискурсе литературного альманаха "Сибирские Афины" на рубеже XX-XXI веков
,
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-18-00511,
,
Значимость категории хронотопа для исследования и анализа текста и дискурса отмечают многие зарубежные и российские исследователи. М. М. Бахтин, вводя термин «хронотоп» в филологическое пространство, назвал его формально-содержательной категорией литературы, «существенной взаимосвязью временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе» и определил как «время – пространство» [2012, с. 341]. Более конкретное определение хронотопа дает И. В. Силантьев: «сюжетогенное сочетание художественного времени и пространства» [2004, с. 83]. Хронотопический аспект анализа художественных текстов является объектом множественных литературоведческих исследований. Например, изучены усадебный хронотоп в детской литературе [Бурмистрова, 2017], хронотоп детства в деревенской прозе [Неверович, 2016], хронотоп трактира в художественном мире А. И. Куприна [Ташлыков, 2010] и мн. др.
В свою очередь, лингвистические исследования чаще понимают хронотоп как дискурсивную категорию, т. е. не как сочетание времени и пространства в рамках определенного текста или совокупности текстов, объединенных авторством или темой, а как пространственно-временную характеристику процесса возникновения и функционирования совокупности высказываний.
Несмотря на обилие различных подходов к определению термина «дискурс» и к моделям его исследования, категория хронотопа в дискурсивных исследованиях выделяется целым рядом лингвистов и философов. М. Фуко называет дискурсивную практику совокупностью «анонимных, исторических, всегда детерминированных во времени и пространстве правил, которые в данную эпоху и для данного социального, экономического, географического или лингвистического сектора определили условия осуществления функции высказывания» [1996, с. 227–228], т. е. отмечает обусловленность существования высказывания в дискурсе хронотопическими рамками. Т. ван Дейк определяет дискурс в широком смысле как комплексное коммуникативное событие, происходящее между говорящим и слушающим (наблюдателем), в определенном временном, пространственном и прочем контексте [Ван Дейк, 1998, с. 194].
Значимость пространственной и временной категорий как одного из параметров анализа дискурса отмечают и российские исследователи, такие как В. И. Карасик [2002, с. 200], И. В. Силантьев [2006, с. 49], А. А. Кибрик и В. А. Плунгян [1997, с. 308]. С. А. Церковнов отмечает, что хронотоп как категория позволяет «выделить основные характеристики данного дискурса в сравнении с другими типами дискурса» [2021, с. 408]. Иными словами, для дискурсивных исследований хронотоп является скорее внешней характеристикой текста или совокупности текстов, нежели внутренней.
В нашем исследовании предполагается объединение двух подходов и рассмотрение хронотопа одновременно как внутренней категории, поскольку эмпирическим материалом послужат в том числе художественные тексты, так и внешней, поскольку совокупность исследуемых текстов мы рассматриваем как дискурс, ограниченный пространственно-временными рамками. Однако мы не ставим перед собой цель исследовать специфику хронотопа как художественной категории и реализуем данное исследование в рамках дискурсивного подхода.
Рассматривая дискурс в целом как «совокупность высказываний, принадлежащих к одной и той же системе формаций и подчиняющихся одной и той же системе формирования» [Фуко, 1996, с. 108], мы выделяем понятие «сибирский дискурс» как совокупность высказываний, хронотопически связанных с Сибирью и подчиняющихся «внутренним правилам» формации, т. е. механизмам того, что может быть сказано. В данном случае уточним: что может быть сказано в региональном литературном альманахе, издающемся в г. Томске в течение конкретного исторического периода; «где» и «когда» сконцентрировано внимание говорящего, какие места, события и исторические периоды находятся в фокусе его внимания.
Существует ряд исследований, рассматривающих «сибирский хронотоп», или «хронотоп Сибири», на материалах сибирских изданий, например новосибирского журнала «Настоящее» [Васильев, 2021]; на материале художественной литературы, в частности поэзии Т. Н. Гримблит [Бурмистрова, 2018], Г. В. Адамовича [Леонтьева, 2012], дневниковых записей [Шатин, 1989], однако литературно-художественные журналы и альманахи как целостные издания мало рассматривались в аспекте их хронотопа. Продолжая уже существующие исследования сибирского дискурса и сибирского хронотопа, мы избираем своим эмпирическим материалом тексты, безусловно относящиеся к миру художественной литературы и публицистики, опубликованные на страницах одного конкретного издания, т. е. прошедшие отбор редакционной коллегии и таким образом «легитимизированные» в дискурсе. Целью нашего исследования является определение основных хронотопи-ческих доминант в дискурсе сибирского литературного альманаха на рубеже XX–XXI вв.
Материалом для исследования послужили имеющиеся в электронном доступе выпуски альманаха «Сибирские Афины», который издавался Томской областной писательской организацией с 1994 по 2007 г. Альманах выходил с разной периодичностью (от 1 до 4 раз в год); объем номера составлял от 52 до 124 страниц в «сдвоенных» номерах. Система рубрик в альманахе не была устойчивой, однако некоторые рубрики (например, «Сибирский круг поэтов», «Школьная муза» и др.) сохранялись с первых до последних номеров. Данные о типологической принадлежности «Сибирских Афин» разнятся: их называют и журналом, и литературным альманахом. На наш взгляд, наиболее точным было бы определение «региональный историко-литературный альманах». Издание «объединяло под своей обложкой произведения разных жанров как начинающих, так и признанных литераторов; краеведческие очерки» 1; главным редактором альманаха являлся томский писатель, член Союза писателей СССР и Союза писателей России А. И. Казанцев. Фактически издание прекратило свое существование в 2007 г., после смерти А. И. Казанцева; выходивший позже альманах с тем же названием под редакцией писателя Ю. С. Буркина с изначальными «Сибирскими Афинами» имел мало общего и в текущем исследовании не рассматривался. В рамках нашего исследования методом сплошной выборки отобраны и проанализированы 38 выпусков альманаха, содержащих 1 073 публикации. При помощи анализа описанных в произведениях реалий (событий, мест, персоналий, предметов быта и др.) определен хронотоп опубликованных текстов. Хронотопические доминанты выявлены методом контент-анализа; однако далеко не во всех рассмотренных текстах выделить пространственную и / или временную категорию представилось возможным.
В предисловии редколлегии к первому номеру «Сибирских Афин» есть следующие слова: « Мы чуть ли не фанатично верим, что не за горами время возрождения Томска как центра сибирской культуры, что наш город еще будут без всякой иронии, как когда-то, называть Сибирскими Афинами, что наш альманах и ныне найдет в нем умного, неравнодушного читателя, для которого станет добрым и нужным подарком». Кроме того, заслуживает внимания эпиграф за авторством идеолога сибирского областничества Г. Н. Потанина, вынесенный в начало каждого номера: «Я приглашаю вас свободно высказаться в связи с судьбами нашей Сибири».
Приведенные отрывки формируют миссию издания и одновременно позиционируют его как «площадку» для восстановления утраченного Томском статуса центра сибирской культуры и дискуссии о «судьбах Сибири». Следует отметить, что само название альманаха «Сибирские Афины» восходит к мифологеме «Томск – сибирские Афины», которая, по мнению З. И. Резанова, является «основой локальной городской идентичности (самоидентификации) томичей. Мифологема «Томск – Сибирские Афины» и ее импликации репрезентируют в вербальных формулах устойчивые представления томичей об «особой ауре города» [Резанова, 2010, с. 78]. Несмотря на то, что исторический статус возникновения мифологемы и ее контекст остаются до конца не проясненными (наиболее полно его история изложена в исследовании [Суханов, Щербинин, 2017]), выбор названия для альманаха говорит о его вовлеченности в миф о Томске как пространстве «с особым цивилизационным статусом» [Резанова, 2010, с. 77] и о возможности рассматривать данное издание как эмпирический материал для исследования «сибирского дискурса», «сибирского хронотопа» и его основных доминант. Следует отметить, что интенсивность литературного процесса в Томске начиная с XIX в. и по настоящее время позволяет говорить о феномене «томского текста» (по аналогии с «петербургским» или «московским»), о мифологизации и символизации томского пространства, однако для исследования этого феномена невозможно ограничиться материалами одних лишь «Сибирских Афин». В данной статье мы, однако, предпримем попытку обозначить проблематику символического «сибирско-афинского» хронотопа на материале публицистической составляющей альманаха.
Несомненно, значимы для исследования годы выхода альманаха (1994–2007). Как пишут Т. А. Никонова и Т. А. Тернова, «феноменом переходности отмечены эпохи рубежа веков, формирующие новую картину мира, меняющие ее пространственно-временные параметры, антропологические представления» [2023, с. 677]. На материале «Сибирских Афин», как мы предполагаем, можно отследить тот самый феномен «переходности» на рубеже веков, трансформацию и динамику хронотопических доминант в дискурсе литературного альманаха и, возможно, степень влияния на него общественно-политических событий.
Позиционируясь как литературный альманах, «Сибирские Афины» публиковали на своих страницах не только художественные произведения, но также материалы, имеющие публицистическую направленность (новостные заметки, критику, интервью и др.), а также материалы, носящие исторический и краеведческий характер. Как отмечает Н. В. Жилякова, «несмотря на то, что издателем “Сибирских Афин” была Томская областная писательская организация, вследствие чего издание наполнялось преимущественно литературными произведениями разных жанров местных писателей и поэтов, в этом органе периодики уделялось довольно много места краеведческой тематике. Это объяснялось интересом редакции и авторского состава к местной истории» [Жиляко-ва, 2022, с. 75]. Из 1 073 исследованных нами публикаций 721 относится к (1) художественной литературе, 307 к (2) публицистике и 34 к (3) историко-краеведческим материалам; 11 материалов представляют собой переводы и письма и в силу слабой выраженности хронотопа в исследование не включались. Первые три категории показали специфическое распределение хронотопических доминант, поэтому результаты анализа будут приведены отдельно для каждой.
1. Художественная литература
Данная категория публикаций, наиболее многочисленная, оказалась одновременно и наиболее сложной в вопросе определения хронотопа, причем темпоральный параметр в ней проявлен значительно меньше топического. По степени проявленности хронотопа можно условно разделить все публикации на несколько категорий.
-
А. Темпоральный и топический параметры заданы автором в тексте. К данной категории относится 72 публикации. Например, рассказ В. Макшеева «Год 1939. В пансионе фрейлен фон Рамм» начинается словами «Тарту, долгая осень тридцать девятого» (Сибирские Афины, 2005, № 38–39, с. 14–17); Б. Климычев в отрывках из повести «Томские чудеса» (Сибирские Афины, 1994, № 1, с. 7–11) упоминает время действия – весну 1937 г., а также место действия – г. Томск, и конкретные томские топонимы (Михайловская роща, Загорная улица и др.).
Б. Топический параметр задан автором, темпоральный может быть определен из контекста. К данной категории мы относим 219 публикаций. Например, в рассказе С. Смирнова «Изгой и бумажная ёлка» (Сибирские Афины, № 48–49, с. 12–16) топический параметр задан как «районная больница», о темпоральном можно достоверно судить по отрывку, в котором герой смотрит по телевизору новостное сообщение о войне в Катанге (Конголезский кризис, 1960–1965 гг.).
-
В. Темпоральный и топический параметры не заданы автором в тексте, но могут быть определены из контекста. К данной категории мы отнесли 108 публикаций. Например, отрывок из повести «Весенние танцы» Э. Бурмакина содержит многочисленные упоминания неназванной «войны», под которой, по-видимому, подразумевается Великая Отечественная война, т. е. время действия можно определить рамками 1941–1945 гг.; учитывая, что действие происходит поздней весной, однако в тексте нет указаний на близящийся исход войны, можно сократить рамки до 1942–1944 гг. Данная публикация не содержит конкретных топонимов, топический параметр можно определить лишь как «городской» по отдельным цитатам («была большая, чудесная клумба в центре города, по краям обложенная ровными кирпичами»).
Г. Темпоральный и топический параметры не названы автором в тексте, абстрактны, определение их из контекста вызывает затруднения. К таковым относятся значительная часть поэтических публикаций и ряд прозаических публикаций (всего 286), не имеющих очевидных указаний на место и время действия в произведении. Исследователи-литературоведы отмечают «бес-событийность», «бесфабульность» лирического хронотопа [Власов, 2012, с. 186], разворачивание лирических событий «здесь в пространстве, являющем собой нерасчленимое единство внешней и внутренней ситуации» [Григорьева, 2010, с. 102]; неуточненный лирический хронотоп, однако, сложно считать специфической доминантой конкретно для исследуемых текстов, поскольку его «бессобытийность» является общей чертой лирической поэзии.
При этом в альманахе отсутствуют публикации, в которых автором задан темпоральный компонент, но не задан топический; в совокупности с приведенными выше количественными данными это говорит о более высокой значимости топического компонента.
Рассмотрим частотность использования конкретных топических и темпоральных единиц в исследуемых текстах. Обращает на себя внимание безусловная «томскоцентричность» публикаций. Из 291 художественного произведения, в которых топический параметр задан автором, 126 хронотопически непосредственно связаны с Томском, что либо указывается авторами прямо, либо выясняется из упоминания городских топонимов. При этом наиболее частотными томскими топонимами, которые не только упоминаются в тексте, но и представляют собой «место действия», являются: река Ушайка (9 публикаций), Белое озеро (6 публикаций), Лагерный сад (5 публикаций), река Томь (4 публикации) и вокзал Томск-1 (3 публикации). Еще 83 художественных произведения хронотопически связаны с Томской областью. Наиболее значимой локацией региона является Васюганье (включая пос. Новый Васюган и Средний Васюган, реку Васюган, Васюганские болота) – оно является «местом действия» в 41 публикации. Другие наиболее частотные топонимы – с. Каргасок (13 публикаций), с. Парабель (7 публикаций), г. Стрежевой (6 публикаций), г. Колпашево (3 публикации). Такое значительное внимание, уделенное Васюганью, может быть объяснено историко-культурной (место ссылки репрессированных, в том числе спецпереселенцев, как следствие – место поселения людей различных национальностей), экономической (месторождения нефти и газа, запасы торфа) и природной (Васюганские болота – одни из самых больших в мире) значимостью данной территории для Томской области. Дважды из уст разных авторов, А. Крылова и М. Карбышева, на страницах альманаха звучит сравнение Васюгана с Вавилоном как местом соприкосновения различных культур, языков и национальностей.
В 29 публикациях ведущим является «сибирский сельский / деревенский» и «таёжный» хронотоп без указания конкретных топонимов, т. е. такой хронотоп, под которым может скрываться как пространство Томской области, так и другого сибирского региона. При этом публикации, хронотоп которых был бы задан автором как «сибирский», но достоверно находящийся на территории других регионов Сибири, единичны (например, Новосибирск и Новосибирская область являются «местом действия» в 6 публикациях). В ряде публикаций присутствуют лишь краткие упоминания городов и других населенных пунктов Кемеровской и Новосибирской областей, Красноярского края. Не слишком многочисленны публикации, хронотопически относящиеся к Москве и Санкт-Петербургу (15 и 8 публикаций соответственно). При этом в 27 публикациях задан неуказанный «городской» хронотоп, лишенный конкретных топонимов. В нем можно выделить несколько подкатегорий: университетский (6 публикаций), школьный (6 публикаций), больничный (4 публикации), кладбищенский (2 публикации). Также выделяются сказочный (15 публикаций) и фантастический (9 публикаций) хронотопы.
При рассмотрении топического компонента в динамике можно отметить постепенное расширение «географической карты» материалов альманаха с течением времени вследствие наращивания культурных и деловых связей с другими странами, причем и на государственном уровне, и на уровне сотрудничества отдельных изданий. Так, с 2000 г. начинается сотрудничество «Сибирских Афин» с русскоязычными эмигрантскими изданиями Филадельфии, которое обусловливает присутствие американского, филадельфийского, хронотопа в «Сибирских Афинах». Двойной номер № 38–39 за 2005 г. посвящен российско-германским отношениям, что проявилось и в художественной, и в публицистической, и в краеведческой составляющих альманаха, расширив в том числе художественный хронотоп за счет произведений, тематически связанных с Германией (номер, согласно вступительному слову редактора, приурочен к Российско-германскому саммиту).
В контексте расширения «географии» художественного хронотопа примечательно и то, как «Сибирские Афины» дополнительно удерживают на своих страницах сибирский и томский «фокус». Так, публикации художественных произведений авторов из других городов и стран сопровождаются следующими пометками из биографии: «работал в Томске и Стрежевом», «выпускник ТПУ», «живёт в Красноярске» и т. п. Отсутствие подобных отметок в некоторых публикациях говорит о том, что причастность к Томску или Сибири не являлась обязательным условием для публикации, однако она непременно указывалась в тех случаях, где имела место.
Темпоральный компонент хронотопа в сравнении с топическим в исследуемом дискурсе характеризуется меньшей проявленностью и меньшей же динамикой. Наиболее ярко выраженным является военный хронотоп.
Великая Отечественная война является основным темпорально-событийным фоном в 51 публикации; Первая мировая война – в 3 публикациях, Гражданская война – в 2 публикациях, Афганская война – в 2 публикациях, Чеченская война – в 2 публикациях. Среди прочих исторических событий можно отметить репрессии 30-х годов (3 публикации), ссылки и спецпереселение (3 публикации), распад СССР (3 публикации). Последнее, несмотря на хронологическую близость к годам выхода альманаха, рефлексируется на его страницах незначительно. Самые «ранние» по темпоральному признаку публикации можно отнести к «античному хронотопу», например, отрывки из повести А. И. Казанцева «Любимая» и романа Т. Ю. Назаренко «Минос, царь Крита», в которых действие происходит в Древней Греции. Всего же 7 публикаций хронотопически относятся к XIX в. и более ранним временам, остальные – к ХХ в. Достоверно определить хронотоп как «современный» годам выпуска альманаха (т. е. 90-е гг. XX в. или начало XXI в.) можно лишь в 22 публикациях, например в рассказе Михаила Карбышева «Дела медвежьи», где действие происходит после распада СССР.
Публикации «Сибирских Афин» не сопровождаются указаниями на год написания того или иного произведения, следовательно, многие из опубликованных текстов могут быть написаны за годы и даже за десятки лет до публикации. Однако факт их публикации говорит о том, что эти тексты соответствуют «внутренним правилам» дискурсивной формации. Если с точки зрения топического компонента хронотоп исследованных текстов можно назвать «сибирецентричным» и «томскоцентричным», то с точки зрения темпорального параметра хронотоп можно назвать «ретроспективным», обращенным к событиям прошлого.
2. Публицистика
При анализе публицистических материалов обращает на себя внимание постепенное увеличение их количества (от 2–3 материалов в первых номерах до 34 материалов в последнем номере). Как отмечает Ю. Б. Балашова, «переходный характер альманаха на уровне системных взаимосвязей проявляется в его пограничном положении между литературой и журналистикой. Альманах служит способом скрепления этих двух смежных социальных институтов» [2011, с. 3], и на примере «Сибирских Афин» можно наблюдать такую переходность в динамике. В поздних выпусках альманаха публикуются интервью политической направленности, например интервью И. А. Казанцева с мэром г. Томска А. С. Макаровым, в содержании номера (№ 20 за 2000 г.) озаглавленное «Интервью с мэром Сибирских Афин» и касающееся в основном «томских» тем. Хотя общественно-политическая жизнь и города, и страны в публицистических материалах «Сибирских Афин» рефлексируется крайне незначительно, Томск как культурное пространство остается дискурсивной доминантой. Отметим также, что именно в публицистике часто используется топоним «Сибирские Афины», он выступает как символ «идеализированного» Томска. Приведем две цитаты: «Что значит его [Пушкина] имя для нашего города, по праву именующего себя интеллектуальным центром Сибири, Сибирскими Афинами ?» (Д. Киржеманов, № 14, 1999 г.); «Попытка облагородить вид города, придать всему этому воспитательное значение… чтобы по красоте и по нравам жителей город соответствовал званию Сибирских Афин » (упомянутое выше интервью с А. С. Макаровым). Символически и аксиологически нагруженный хронотоп Сибирских Афин, однако, заслуживает отдельного исследования.
По сравнению с художественными произведениями публицистика на страницах «Сибирских Афин» характеризуется большей проявленностью хронотопического компонента. Из 307 исследованных публикаций 298 имеют четко очерченный хронотоп, который в 266 случаях можно определить, как «Томск – год публикации». При этом тематика материалов остается достаточно узкой: это новостные сообщения о проходящих в Томске творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), рецензии на томские театральные постановки и опубликованные книги томских писателей, интервью с известными томичами и т. д. Темпорально эти публикации соотносятся с годом, иной раз даже с месяцем выхода номера альманаха, в котором они опубликованы. В 19 публикациях хронотоп можно охарактеризовать как «биографический»: это, как правило, публицистически осмысленные воспоминания о писателях, живших в Томске (так, например, № 11 за 1998 г. содержит 7 материалов, посвященных томской писательнице М. Л. Халфиной, умершей в 1988 г.).
Публицистика альманаха демонстрирует даже бо́льшую «томскоцентричность», нежели тексты литературно-художественной направленности, однако концентрируется на хронотопе современном, актуальном. Исключение составляют 6 публикаций, которые можно отнести к жанру эссе и которые посвящены авторскому осмыслению «вечных» общечеловеческих или, по меньшей мере, общенациональных проблем (например, рассуждения С. Смирнова о природе власти «Да здравствует Незнайка!» в № 13 за 1998 г.).
3. История и краеведение
Исторические и краеведческие материалы с точки зрения хронотопа можно разделить на хронотопически связанные и не связанные с Томском и Сибирью. Первая группа (21 публикация) при единстве топического параметра (Томск, Сибирь) демонстрирует больший разброс темпорального параметра: от XVII в. и до современности. Однако большая часть публикаций (16) концентрирует- ся на событиях ХХ в. Двенадцать публикаций, не связанных с Томском и Сибирью, более разнородны по топическому параметру (Москва, Петербург, Приднестровье, Франция, Германия и др.). Однако авторы таких материалов стараются хотя бы упомянуть Томск. Например, проф. С. В. Гу-дошников в статье к 250-летию со дня рождения Гёте (№ 15 за 1999 г.) пишет: «Путешествуя по Италии, Гёте увидел в парках одно дерево (…) раздобыв его семена, он вырастил в горшочках небольшие деревца и один экземпляр подарил любимой женщине Марианне фон Виллемер, сопроводив его стихами. Эти стихи я нашел в одной немецкой монографии, хранящейся в библиотеке Гербария им. проф. П. Н. Крылова Томского университета». Томск, даже смещаясь с места хроно-топической доминанты в рамках отдельно взятого текста, не исчезает полностью из поля зрения и автора, и читателя. При большем разнообразии задействованных топосов хронотоп исторических и краеведческих материалов также является «ретроспективным» по своему темпоральному параметру.
Основной хронотопической доминантой в дискурсе «Сибирских Афин» является Томск, город, в котором издавался альманах. Томск как художественный топос в данном дискурсе не имеет статуса «провинции» или «периферии», не противопоставляется «столичному» топосу, напротив, приобретает черты «центра Сибири», «столицы Сибири». Вопреки общей тенденции к изображению в литературе лишь «образа» того или иного провинциального города [Меднис, 2003, с. 46], «обобщённого образа далёкого, захолустного, патриархального, не всегда интересного и в то же время старинного и дорогого человеку городка» [Попова, Шурупова, 2023, с. 44], авторы «Сибирских Афин» коллективно конструируют конкретное, узнаваемое городское пространство, восходящее к мифологеме о «Сибирских Афинах». Томск приравнивается к Сибири, становится ее неофициальным центром (равно как и Афины были «колыбелью» античной культуры). Сибирь предстает на страницах альманаха как необъятный и потому абстрактный топос, Томск же максимально детализирован.
М. М. Бахтин так описывает хронотоп провинциального города в русской литературе: «Здесь нет событий, а есть только повторяющиеся “бывания”. Время лишено здесь поступательного исторического хода, оно движется по узким кругам: круг дня, круг недели, круг месяца, круг всей жизни. <…> Время здесь бессобытийно и потому кажется почти остановившимся» [2000, с. 182] . Действительно, из всего списка произошедших в XX – начале XXI в. исторических событий авторами альманаха активно рефлексируются только военные конфликты, в особенности Великая Отечественная война. Темпоральный параметр хронотопа представляется практически бессобы-тийным с исторической точки зрения, он наполнен событиями частными, затрагивающими только судьбы отдельных персонажей и судьбы города; даже военные конфликты демонстрируются через судьбы томских, сибирских по происхождению героев. Хронотоп художественных текстов ретроспективен, как и хронотоп исторических и краеведческих текстов, публицистика же концентрируется на «настоящем времени», однако охватывает лишь события культурной жизни города. На протяжении всех лет работы альманаха публицистическая и историко-краеведческая составляющие демонстрируют хронотопическую стабильность, хронотоп же художественной литературы расширяется за счет топического компонента, осваивая новые пространства и формируя устойчивые связи с литераторами других городов и стран, однако не перестает концентрироваться на Томске, Томской области и Сибири как на наиболее дискурсивно значимых пространствах.
Список литературы Хронотопические доминанты в дискурсе литературного альманаха "Сибирские Афины" на рубеже XX-XXI веков
- Балашова Ю. Б. Эволюция и поэтика российского литературного альманаха как типа издания: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. СПб., 2011. 38 с.
- Бахтин М. М. Теория романа // Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. М.: ЯСК, 2012. Т. 3: Теория романа (1930-1961 гг.). 880 с.
- Бахтин М. М. Эпос и роман. CПб.: Азбука, 2000. 301 с.
- Бурмистрова С. В. Усадебный хронотоп в детской литературе XX - начала XXI века // Сибирский филологический журнал. 2017. № 1. С. 119-126.
- Бурмистрова С. В. Семантика сибирского хронотопа в лирике Т. Н. Гримблит // Вестник ТГПУ. 2018. № 6 (195). С. 100-104.
- Васильев С. С. Хронотоп Сибири в материалах журнала «Настоящее» (1928-1930) // Сибирский филологический журнал. 2021. № 2. С. 96-105. https://doi.org/10.17223/18137083/75/7
- Власов А. С. Лирический хронотоп в стихотворении Б. Пастернака «О, знал бы я, что так бывает...» // Национально-культурный и когнитивный аспекты изучения единиц языковой номинации: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Кострома, 2012. С. 186-188.
- Григорьева Е. К. К проблеме лирического события // Событие и событийность: Сб. ст. М., 2010. С. 101-102.
- Жилякова Н. В. Краеведческая журналистика Томска в 1990-х годах: основные типы изданий // Медиаисследования. 2022. № 9. С. 73-80.
- Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.
- Кибрик А. А., Плунгян В. А. Функционализм и дискурсивно-ориентированные исследования // Фундаментальные направления современной американской лингвистики. М., 1997. С. 307-323.
- Леонтьева А. Ю. Хронотоп Сибири в поэзии Г. В. Адамовича // Язык и культура. 2012. № 3. С. 150-155.
- Меднис Н. Е. Сверхтексты в русской литературе. Новосибирск: НГПУ, 2003. 170 с.
- Неверович Г. А. Хронотоп детства в деревенской прозе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 2-1 (56). С. 49-51.
- Никонова Т. А., Тернова Т. А. «Провинциальная литература» в ситуации культурного перехода // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2023. № 3. С. 675-680.
- Попова Е. А., Шурупова О. С. Провинциальный текст русской литературы с точки зрения лингвистики сверхтекста // Филологическая регионалистика. 2013. № 2 (10). С. 39-44.
- Резанова З. И. Мифологема «Томск - Сибирские Афины» в коммуникативных тактиках публицистического дискурса (на материале еженедельной периодики г. Томска) // Язык и культура. 2010. № 1 (9). С. 74-84.
- Силантьев И. В. Поэтика мотива. М.: ЯСК, 2004. 296 с.
- Силантьев И. В. Газета и роман: риторика дискурсивных смешений. М.: ЯСК, 2006. 224 с.
- Суханов В. А., Щербинин А. И. Жизнь и смерть «Сибирских Афин»: проблема жизненного цикла метафорического топонима в различных дискурсах ХХ - начала ХХI в. // Вестник Том. гос. ун-та. Филология. 2017. № 47. С. 149-170.
- Ташлыков С. А. Хронотоп трактира в художественном мире А. И. Куприна // Сибирский филологический журнал. 2010. № 1. С. 39-44.
- Фуко М. Археология знания. Киев: Ника-Центр, 1996. 208 с.
- Церковнов С. А. Хронотоп в научно-академическом дискурсе (к постановке вопроса) // XLIX Огарёвские чтения: Материалы науч. конф. Саранск, 2021. Ч. 3. С. 405-412.
- Шатин Ю. В. Сибирские мотивы в дневнике В. К. Кюхельбекера // Традиции и тенденции развития литературной критики Сибири. Новосибирск: Наука, 1989. С. 35-45.
- Van Dijk T. A. Ideology: A Multidisciplinary Approach. L.: Sage, 1998. 366 p.