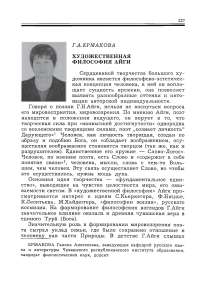Художественная философия Айги
Автор: Ермакова Галина Алексеевна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Провинциальная культура
Статья в выпуске: 3 (48), 2004 года.
Бесплатный доступ
Типологическое совпадение некоторых философских течений XIX - XX веков с восприятием поэта Г.Н. В статье анализируется Айга. Сделан вывод о глубоких национальных корнях творчества поэта.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222889
IDR: 147222889
Текст научной статьи Художественная философия Айги
Сердцевиной творчества большого художника является философско-эстетическая концепция человека, в ней он воплощает сущность времени, она позволяет выявить разнообразные оттенки и интонации авторской индивидуальности.
Говоря о поэзии Г.Н.Айги, нельзя не коснуться вопроса его мировосприятия, мировоззрения. По мнению Айги, поэт находится в положении ведущего, он верует в то, что творческая сила при «наивысшей достигнутости» однородна со вселенскими творящими силами, поэт „сознает личность" Дарующего»1 Человек, как личность творящая, создан по образу и подобию Бога, он «обладает воображением, осуществляя воображаемое становится творцом (так же, как и разрушителем). Единственное его оружие — Слово-Логос». Человек, по мнению поэта, есть Слово и «содержит в себе понятие связи»2, человека, мысли, слова с чем-то Большим, чем человек. Эту связь осуществляет Слово, но чтобы это осуществилось, нужна мощь духа.
Основная идея творчества — «фундаментальное единство», выводящее на чувство целостности мира, его омы-ваемости светом. В «художественной философии» Айги просматривается интерес к идеям С.Кьеркегора, Ф.Ницше, К.Леонтьева, М.Хайдеггера, «философии жизни», русского космизма. На формирование философских взглядов Г.Айги значительное влияние оказала и древняя чувашская вера в единого Тура (Бога).
Значительную роль в формировании мировоззрения поэта сыграл уклад семьи, где было сохранено отношение к человеку к ак части Природы. В детстве Г.Айги слышал
ЕРМАКОВА Галина Алексеевна, заведующая кафедрой русского языка и литературы Чувашского республиканского института образования, кандидат филологических наук, доцент.
молитвы матери, обращение к единому Богу, следует сказать и о том, что род поэта восходит к шаманам; немалую роль сыграла встреча с Б.Пастернаком, увлеченное чтение произведений А.Пушкина, И.Анненского, М.Лермонтова, В.Маяковского; обращение к поэзии чувашского народа, любовь к творчеству М.Сеспеля, В.Митты, А.Миттова, тяга к творчеству Ш.Бодлера, Малларме, учению Т. де Шардена. Согласно Айги, мир един, целостен, он живет по законам круга, то есть «вечного возвращения»,что просматривается и в древней чувашской вере. Идея же Ницше о жизни, как о воле, вероятно, увлекла Айги, тем более, что она просматривается и в древней чувашской вере — воля всего устремляться к свету, небу, Богу.
«Жизнецентризм», понимание его как реальности, существующей до разделения мира на идеальное и материальное, просматриваемое в трудах Ф.Ницше, А.Шопенгауэра, А.Бергсона, О.Шпенглера, представляющих школу «философии жизни», Т. де Шардена, М.Гершензона, А.Могилевской, близки Айги, размышляющему о феномене жизни. Говоря о человеке, он приравнивает его к безмерному космическому пространству, понимает как расширение человеческого «Я» до «космического»3
Представители школы «философии жизни» большое внимание уделяли анализу человеческого духа, проявлениям сознательного и бессознательного, особенно интуиции, памяти. Айги доверяет интуиции, так как она помогала ему понимать вещь в ее цельности, единстве. Подобной точки зрения придерживался и Бергсон. Он понимал интуицию как высшее знание, говорил, что «инстинкт есть врожденное знание», «инстинкт направлен к бессознательному», абсолютное может быть дано в интуиции. При помощи интуиции, по мнению Бергсона, человек проникает «во внутрь предмета». Он считал, что жизнь действует как память, она есть «прорыв», а жизненный порыв «состоит по существу в потребности творить»4 Подобную точку зрения мы встречаем у Айги. По его мнению, жизнь есть «поток», «цельность», «бесконечность становления», «каждый момент которой есть творчество». Подобным образом мыслил и Т. де Шарден5.
Айги пытается понять взаимоотношения человека со Вселенной, в его творчестве просматривается идея един- ства человека и мира, омываемого потоком света. Это один из основных мотивов его творчества. Подобную точку зрения мы находим в древней чувашской вере6. Все есть одно целое, находящееся в потоке света:
... и небом и землею всею: сиять — включая: слабейшую на воле зыбь.
Все связано в едином потоке вечности, там, в этом круге, все кончается, и все вновь продолжается:
все кончалось а продолжается.
Айги является глубоко национальным мыслителем, вера в свет, единого Бога, пронизывает все творчество поэта. В его творчестве находят единение основные мотивы чувашского и русского народов: устремленность к сакральному, стремление постичь мир и человека, опираясь на дологическое миропонимание. Следует считать, что его художественная философия имеет вектор, направленный на мифопоэтическую картину мира. Это специфическая национальная черта русского и чувашского народов, отраженная в философии, о чем замечательно сказал А.Ф.Лосев: «...мы и должны быть мифологами, потому что почти вся русская философия (мы добавим — чувашская философия) являет собой „дологическую" и „сверх-логическую“ картину философских течений и направлений»7
Айги старается познать вещь изнутри, это роднит его с Бергсоном и многими русскими мыслителями, в том числе с В.Соловьевым, Н.Федоровым, ибо их философия ориентирована на «мистическое познание сущего», «представляет собой внутреннее познание сущего, его скрытых глубин, которые могут быть постигнуты не посредством сведения к логическим понятиям, а только в символе, в образе посредством воображения».
В художественном мире Айги нам представляется дорога жизни как путь к свету, о чем размышляли Н.Бердяев, В.Соловьев, Т. де Шарден. Н.Бердяев, говоря о пути русского народа, заметил, что «все своеобразие славянской и русской мистики — в искании града Божьего»8. Это созвучно творчеству Айги, ибо одним из его основных мотивов является присутствие Бога. Особенно глубоко об этом сказано в стихотворении «Ты — ликами цветов», где цветы уподоблены Господу, свету, белизне, но в то же время поэт говорит о том, что белизна эта отходит, то есть Бог покидает эту землю, отчего болит душа поэта.
В творчестве Айги встречаются и эсхатологические мотивы, но они переплетаются с мотивами света, преображения мира, что является основной идеей как русской философии, так и мировидения чувашского народа, представленного в трудах В.К.Магницкого, Н.В.Никольского, Н.И.Ашмарина, И.Н.Юркина, В.Д.Дмитриева, Н.И.Егорова и др. Такой же взгляд просматривается и в трудах Т. де Шардена, любимого философа поэта. Айги близки идеи «космизма». Религиозно-философское направление «русского космизма» и западного в лице Тейяра де Шардена представило идею эволюционного развития космического универсума, в том числе христианского космоса, онтологически заданного. Эта идея просматривается в учениях Вл.Соловь-ева, Н.Федорова, Н.Бердяева, П.Флоренского, С.Булгакова. В их трудах отстаивается идея целостности, единства человека и космоса, но в то же время говорится и об утрате божественной сути человеком.
Идеи целостности мира, значимости творчества близки Айги. Они, очевидно, оказали влияние на формирование его художественного сознания. К Айги через постижение философии пришло понимание феномена человека как Вселенной, как «одного с космосом состава». Поэт чувствует зов Вселенной, ее ритм, слышит голос правремени через голос предков, «шепот» цветка, «песнь» леса, поля, реки, через «говор» огня, зари, солнца, так чувствовали и воспринимали мир К.Циолковский, В.Вернадский, А.Чижевский, Т. де Шарден, древние чуваши.
Чувство родства всего, омываемого светом, вечности — основное в творчестве Айги, что у поэта определило и философию природы. Для него небо и земля едины. Идея «фундаментального единства» — центральная в философии русского космизма, Т. де Шардена, чувашского народа, для которого в древности языческие боги были лишь разнообразным выражением единого Бога, что подчеркивал Магницкий, Вл.Соловьев, заметил, что языческие боги — лишь разнообразные выражения всеединого — «to pan». Идея Всеединства (основа мифологического сознания) находит осмысление и в трудах С.Франка, Вл.Соловьева, и частично отражена в учениях П.Флоренского, С.Булгакова, Е.Трубецкого, Л.Карсавина, Н.Лосского, А.Лосева, ее пытались осмыслить С.Трубецкой, Вячеслав Иванов. Как систему выстроил ее Вл.Соловьев, представляя Всеединство как Всеединое Сущее, вместившее Благо, Истину, Красоту. Его взгляды — есть учение «о жизни и бытии, включая всю человеческую и всю космическую сферу, как нерушимую всеединую целостность»9. О единстве «древа жизни» говорит и Т. де Шарден: «Сверху вниз продолжается и развертывается тройное единство: единство структуры, единство механизма, единство развития»10
Идея Всеединства рассматривалась Платоном в диалоге «Пир», где размышляя о любви, врач Эрикимах говорит, что «бог любви Эрот разлит по всей природе, живет он не только в человеческой душе... но... во всем, можно сказать, сущем»11, «любовью называется жажда целостности и стремление к ней». Н.Кузанский, философ раннего Возрождения, римский кардинал, заметил, что «все пронизано невидимым духом связи»12
Одним из составляющих Всеединства, по мнению Вл.Соловьева, является красота, представленная Айги через множество образов, излучающих свет. Это куст, светящийся в поле, лес, хранящий свет рода. Свечение есть эстетическое ядро красоты в художественном пространстве поэта. Оно, как Софийное начало, есть не только красота, а облагораживающая мир, просветляющая его субстанция.
В стихах Айги среди образов, представляющих тьму, холод, покинутость находятся, светятся иные образы, представляющие красоту, свет, являющие «ось в колокольном покое»:
движенья движенья: то словно паденье... то в зареве зыбко-холодном будто дыхание рядом коня — из дальнего пенья без слов: это — пылающая все еще — ось? в колокольном покое...
Основой Всеединства является любовь. Т. де Шарден заметил, что «любовь... представляет собой общее свойство всей жизни и как таковая присуща в разной форме и степени всем формам, последовательно принимаемым организованной материей»13 Любовь для него — это «энергия», соединяющая «существа их сутью», объединяющая их, «фундаментальная вибрация», «тембр которой для натренированного уха слышится в основе или скорее на вершине всякой сильной эмоции», «резонанс в целое», «существенная нота чистой поэзии и чистой религии», «глубокое согласие между встречающимися друг с другом реальностями — разъединенной частицей, которая трепещет при приближении к остальному (Res te)», «свечение». Философ допускает «реальность существования у вершины мира над нашими головами какого-то любящего и любимого», этот «очаг», посылающий свет, он назвал «Точкой Омега»14
Согласно трактовке А.Меня, «Омега» — это Бог, который «сокровенно пронизал мир своей силой, вытянул его в гигантское Древо Жизни и приближает к своему бытию15 Все прекрасное, творческое пронизано любовью Бога. Смысл Земли «открывается и взрывается вверх, в смысл Бога, а смысл Бога укореняется и питается снизу в смысле Земли»16 В художественном мире Айги просматривается подобная точка зрения, поэтому сосны «любвями громадами» у поэта устремляются вверх к «точке Омега». Сосны воспринимают «фундаментальную вибрацию» — любовь Бога.
Сосны, по Айги, соответствуют «Сиянью Простоты за Миром», поэтому они есть «Музыка мира» и «крик Вселенной», «мир ветви». Они касаются корня, то есть сути, «сознают» себя частью Огромности*
вы — корня касающиеся Огромности я человека так-что Мира ветвям сознанье — то частью Огромности то беспредельно — по вашим ветвям:
вы Отчие! Цифры Набата — о Всеохватности...
Анализируя взгляды Т. де Шардена на единство мира, А Мень замечает, что «трансцендентный личный Бог и эволюционирующий мир» у него не являются «больше противоположными центрами притяжения», они входят в «иерар- хическую связь, для того, чтобы поднять всю человеческую массу в едином приливе», этот процесс уже просматривается в «идее духовной эволюции универсума»17
Айги чувствует волны света, рассказывает нам о них в своих произведениях, ибо в каждом из них, даже в том, где говорится о трагичности мира, его «мертвизне», присутствует тема света, сияния, потока, им омывается весь мир — это и есть эстетическое ядро его творчества, истоки его как в древней чувашской вере, так и в трудах Т. де Шардена.
Категория «Я» — один из векторов философско-эстетического сознания Айги, выполняющий антропоцентрическую основу творчества. Она выступает через личные местоимения, глаголы первого лица: «Я», «мне», «ему», «слышу», «вижу». Такое построение метатекста говорит о внимании к внутреннему миру человека, опыте своего переживания.
О диалоге как ключе познания сущности человека говорил и М.М.Бахтин. По его мнению, слово рождается в диалоге18 Айги диалогичен, многие его произведения имеют посвящения, он как бы нацелен на то, чтобы мгновение красоты, увиденное им, смог пережить и читатель. Художественное пространство произведений, где представлены эти мгновения, наполнено светом, чистотою, музыкой, энергией.
Философия чувашского этноса представляет собой внутреннее, порою мистическое познание сущего, мира не через цепь логических рассуждений, а через символы, воображение, что так ярко проявилось в чувашской вышивке, которая полна символов, представляющих верх и низ, небо и землю в чувашском фольклоре, где слово иносказательно, символично, емко и глубоко по содержанию. Постижение сущего, по Г.Айги и чувашскому мировосприятию, возможно вкупе сознания и интуиции, их цельности, отсюда такое трепетное отношение поэта к природно-сельскому: соломинке, огороду, иве, полю. Лирический герой художественного пространства поэта слит с природой, между ним и природой отсутствуют границы, поэтому он может видеть и воспринять свет, исходящий от поля, куста вербы, дуба, ивы, соломинки.
Чувашский этнос верит в чистоту бытия, поэтому в его творениях природа воскрешается, преображается, что видно и в творчестве Г.Айги, в частности, — в стихотворении «Качка тураче» (Ветка вербы). Чувством вечности пропитана вся поэзия Г.Айги, ее основа в миропонимании чувашского этноса. Г.Айги видит, что путь к «фундаментальному единству» весьма труден, он знает силы зла, разрушения, которые стремятся воцарить хаос: «вой кукол», подобный вою волков, на земле еще «тьма безвинных жертв»19. В сборниках стихов «Здесь», «Теперь всегда снега» поэтом представлены силы хаоса, в них говорится о трагических годах для России, но, несмотря на это, вера в позитивные силы у поэта превалирует, он верит в сиянье. Слово «Сиянье» поэт представляет с прописной буквы, тем самым акцентируя на нем наше внимание:
быть похороненным — в той родине, с надеждой: в ней — пребыть: в сиянье остающемся (хотя и Лимб-Язык), и худший в ней ты знал, вводя их сумерки — в Сиянье.
Согласно миропониманию Г.Айги, проявление зла, хаоса, не может остановить движение к свету, цельности, полноте жизни, и поэт произносит:
умное Солнце (...) осталось
Осталось солнце, то есть стремление к единству, цельности, ибо оно, согласно Г.Айги, в основе бытия. Подобная точка зрения есть основа художественной философии поэта Г.Айги. Видя прекрасное, цельное, он стремится его представить, желает запечатлеть его для вечности, его лирический герой в это время не в линейном времени, а в цельном, вечном, общем. Это особое художественное время и пространство, полное света, где бытие понимается в ракурсе «философского разума», «философской интуиции».
Творчество Г.Айги, представляя прошлое своего народа, древнюю веру в единого Бога, приобщает народ к вечности, поэтому ему и удалось обрести внутреннюю свободу, несмотря на то, что многие годы он был в забвении и непризнан, отвергнут как творческая личность. Но время сделало свое дело — оно оставило его Слово в вечности, ибо в нем — душа народа.
Список литературы Художественная философия Айги
- Айги Г.Н. Как бы это громко ни звучало: Виталию Амурскому: (Г.Айги о философии Г. Айги) // Чаваш ен. 1994. 20-27 авг. С. 12.
- Айги Г.Н. Разговор на расстоянии: (Ответы на вопросы друга) // Лик Чувашии. 1994. № 4. С. 27-37.
- Бергсон А. Творческая эволюция / Пер. с фр. В.А.Флеровой; Предисл., примеч. И.И.Блауберг. М., 1998. С. 159-248.
- Тейяр дe Шарден. Феномен человека / Пер. с фр. Н. А. Садовского. М., 1987. С. 127, 176.
- Магницкий В.К. Материалы к объяснению старой чувашской веры. Казань, 1881.