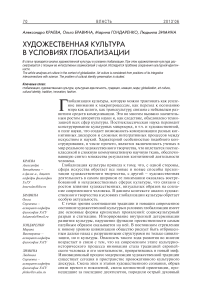Художественная культура в условиях глобализации
Автор: Краева Александра Геннадьевна, Бравина Ольга Сергеевна, Гондаренко Марина Викторовна, Зимина Людмила Сергеевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Глобализация и общество
Статья в выпуске: 6, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится анализ художественной культуры в условиях глобализации. При этом художественная культура рассматривается с позиции ее интегративных взаимосвязей с наукой. Исследуется проблема сохранения культурной идентичности.
Глобализация, художественная культура, культурная идентичность, традиция, новация, мода
Короткий адрес: https://sciup.org/170166984
IDR: 170166984
Текст научной статьи Художественная культура в условиях глобализации
Г лобализация культуры, которую можно трактовать как усиле-ние внимания к макропроцессам, как переход к осознанию мира как целого, как транскультуру, связана с небывалым раз -витием средств коммуникации. Это во многом вызвано значитель-ным ростом авторитета науки и, как следствие, обусловлено техни зацией всех сфер культуры. Постнеклассическая наука переводит конструирование культурных микросред, в т.ч. и художественной, в поле науки, что создает возможность коммуникации разных ког нитивных дискурсов и сложных интегративных процессов между искусством и наукой. Характерной особенностью подобного кон -струирования, в числе прочего, является включенность ученых в мир реального художественного творчества, что вплетается постне классикой в сложную коммуникативную научную ткань, обеспечи вающую синтез множества результатов когнитивной деятельности человека.
Глобализация культуры привела к тому, что, с одной стороны, сфера искусства обретает все новые и новые способы презен тации художественного творчества, с другой — художественная деятельность в самом широком ее понимании оказалась востре-бованной в нехудожественных сферах культуры, что связано с ростом влияния художественных, визуальных образов на созна ние современного человека. В данном контексте анализ художе-ственного творчества в условиях глобализации культуры обретает особую актуальность.
С точки зрения соотношения традиции и новации современное состояние художественной культуры в условиях глобализации имеет две основные формы кризисных проявлений: социокультурный разрыв и стагнацию. Игнорирование внутренней детерминации развития культуры, нарушение функции преемственности самым пагубным образом сказывается на ней. В постоянном стремлении к новому уровню цивилизации общество рискует быть отброшен ным далеко назад с разрушенными структурами не только цивили зации, но и культуры. Опасность такого хода развития во многом возрастает в связи с тем, что на современном этапе культурно -исторического процесса инновация стала традицией европей ского человека и его ментальности, превратившись в новый миф. Инновационный процесс модернизации художественной традиции существует сегодня в пространстве провокативного культурного дискурса. Смена эпох и этапов художественного сознания, обрыв связи времен и поколений, смена ценностной ориентации, про исшедшие за последние десятилетия, породили острый духовный общественный кризис. Инновационные процессы, которые происходят сегодня в области искусства, сложны и противоречивы, как и их генезис. С одной стороны, эти процессы направлены на модернизацию искусства, с другой – очевидно несут в себе не столько созидательное, сколько деструктивное начало.
Технизация искусства явилась также одним из следствий интегративного взаимодействия искусства и науки, что повлекло за собой смену самого понимания художественного творчества. Проблема места новых технологий в современном искусстве стала ведущей. Здесь оказываются востребоваными такие возможности новых технических средств, как обратимость процессов и при создании, и при демонстрации, возможность использования эффекта погружения, легкая «встраиваемость» объектов друг в друга, простота тиражирования, легкость цитирования, облегчение творческого процесса за счет расширения профессиональных умений и подмены их техническими аналогами, возможность перезагрузки. Одним из ярких проявлений этого является тенденция современной искусствоведческой литературы вносить изобразительное искусство в более широкий контекст так называемого визуального искусства. Визуальное мышление и связанные с ним визуальные искусства трактуются шире художественного мышления и традиционного изобразительного искусства. На этом основании говорят о всеобщей тенденции «визуализации» мышления человека XX–XXI столетий и о новой «аудиовизуальной культуре». В рамках новой зрелищности, основанной на звуковом и зрительном погружении в фантазийные миры, визуальный язык становится одним из базовых каналов воздействия на социум. Таким образом, развитие новых технологий не только предложило искусству новый инструментарий, но повлияло на само восприятие феномена искусства и определяющих его феноменов творчества, новаторства, креативности, а также на институционализацию визуальных искусств как в контексте художественных практик, так и в других сферах человеческой деятельности.
Современный культурный дискурс предлагает крайние точки зрения на понятие творчества – традиционную, трактующую его как вершину духовного само- выражения, и другую – как способ конструирования жизненного мира субъекта, нередко в сочетании различных его конфигураций. Сегодня креативной, творческой личностью может быть назван как действительный субъект художественной деятельности, так и герой светской хроники, политический лидер, госслужащий. «Искусством» подчас называют любую деятельность, окутанную пеленой креативности, что существенно влияет как на отношение к феномену самого искусства, так и на его морфологию, институционализацию, систему оценок, отношение к авторству. Кроме того, на художественное творчество сегодня активно влияют СМИ, культурная политика государств, развитие рынка, маркетинговые стратегии, самоорганизованные сообщества и субкультуры.
При этом роль самого художника, а также действительных достижений сферы искусства часто является исключительно служебной. При этом происходит замена способности искусства «выражать» на «просто быть» (например, пятнами краски или чистыми звуками, лишенными всякого символического значения). Так, в области музыкальной культуры со второй половины XX в. происходит распад музыкального произведения как замкнутого целого, концентрация на звуковом музыкальном мгновении. Метод его фиксации становится гораздо существеннее концептуального единства композиции. Превалирует электронная и «конкретная» музыка, связанная с записью различных «звуков действительности» и многообразным их видоизменением вплоть до полной их неузнаваемости, а также новые приемы игры на традиционных инструментах и новые способы вокального зву-коизвлечения – выкрики, шепот, звукоподражание, использование фортепиано в качестве щипкового инструмента, а струнных – в качестве ударных. Ярким примером этого искусства может быть радиопьеса «Воображаемый пейзаж # 4» Дж. Кейджа или пьеса «Горящий рояль» А. Локквуд, в которой имитируется звук лопающихся струн рояля, для чего они натягиваются как можно туже. Если прежняя гармоническая структура музыки опиралась на рациональность, свойственную последовательному ряду эпох и стилей, то современная звукоорганизация – это бесконечный лабиринт, отражающий тип современного мышления – изменчивого и непостоянного. Л. Витгенштейн очень метко определяет облик современного художественного языка как старинный город, представляющий собой лабиринт маленьких улочек и площадей, старых и новых домов, с пристройками в стиле разных эпох. И все это – в окружении множества районов с прямыми улицами регулярной планировки и стандартными домами1.
Весьма наглядно данное обстоятельство проявляется и в современном кинематографе. При создании компьютерных игр, в индустрии видеоклипов формы институционализации самой художественной деятельности по созданию «визуального продукта» в мировой практике во многом совпадают. Роль художника – это либо роль служащего, либо роль сотворца. Свобода визуализации сегодня приводит к тому, что сюжет часто отходит на второй план. Одни и те же истории становятся материалом для разных фильмов, римейков, мультфильмов, компьютер -ных игр, книг, в связи с чем Р. Барт ввел понятие «прикрепление визуального образа»2, когда происходит контекстуа-лизация визуального образа к той или иной знаковой системе, помогая прочтению сообщения. Ассоциативным или символическим прикреплением активно пользуются в различных контекстах: от интеллектуальных цитат в кинофильмах до гламурных интерпретаций в видео -клипах. Технологии выступают и как способ создания эффекта достоверности, как инструмент придания конкретных очертаний фантазиям. Как крайнее проявление этого в современном кинематографе создан даже новый жанр – мокьюментари, что означает псевдодоку-ментализм. Фильмы этого жанра внешне соответствуют стандартам документального кино, но их предмет является вымышленным, искусственно встроенным в действительность. Ю. Норштейн применил для данного вида творчества понятие «картотечное кино», основанное не на глубине духовных переживаний, а на автоматизме, минимализации мышления. Во всех экранных действах активно исп ользуется понятие «формат».
Киноприем, видеостиль, телеформа, медиа-клип сегодня стали стандартным набором характеристик конкретной визуальной информации. Все кажущееся многообразие стратегий использования технологий сводится к двум приемам: либо это визуализация фантазии (создание виртуальных фантазийных миров), либо придание «эффекта достоверности» (развитие мокьюментари). Однако современная художественная культура перешла грань упоения самоценностью технических средств. Все острее ощущается потребность либо качественного скачка на новый уровень визуального воздействия, либо наличия четкой концепции, содержащей глубокую духовную рефлексию.
Этим объясняется начало поворота в сторону консерватизма, что находит свое проявление в обращении, например, к ретроэстетике как в области формы, так и в области содержания. Художественное творчество как форма выживания в условиях глобализации становится важной частью сохранения культурной идентичности в поликультурном пространстве, что напрямую связано с опорой на традицию и, как это ни парадоксально, с феноменом моды.
Как феномен культуры, мода интерактивна и концептуальна. Это движение, целью которого является изменчивость ради изменчивости, но одновременно именно мода в самом широком ее понимании оказывается глубоко связанной с социокультурной динамикой нормативных ценностей, характерных для каждой конкретной эпохи, через их «престижность». Современную культуру отличает органичное сосуществование различных социокультурных норм и образцов, позиционируемых модой не как исключающие друг друга противоречия, а как мозаичность актуальностей, «архив» стилей и ценностей. Если в культуре в целом традиция выполняет сохранительные функции, то моду определяет инновация на основе смены традиционных нормативов и стандартов, что дает возможность возвращения культурных образов прошлого, их трансформации и реабилитации в новом контексте. Ярким примером этому может служить полистилистика в музыкальной культуре XX в., возрождающая целый спектр различных субкультур. Одновременное сосуществование классики, джаза, поп- и рок-музыки, массовой песни и многих других жанров музыкального искусства было характерно для художественного сознания общества, начиная с середины XX в. А. Шнитке принадлежит разработка самой концепции полистилистики, уникальность которой заключается в способности интеграции различных культурных уровней, сохраняющих в современном творчестве различные исторические и социальные стили. Основную почву полисти-листической ретроспективы в творчестве Шнитке составляли 3 исторических пласта: средневековье, барокко и музыкальная классика XIX в. Для самого композитора полистилистика была важным музыкальным средством для художественного выражения связи времен, возникшим в ответ на требование времени, как воплощение всего многообразия современной культуры. Аналогичная ситуация имела место в начале XIX в. в области русского языка. Отсутствовал его единый образ: он представлял собой синтез ряда языков – беллетристического, разговорного, канцелярского, военного, языка богословской литературы и т.д.
Таким образом, мода выполняет коммуникативную функцию, позволяя традиции не только оставаться в глубинных слоях культуры, но и обновляться, обретая новую окраску в разных микросредах эпох. Культурные традиции становятся интересны социуму не только в историческом аспекте, но как средство «выживания» в современном мире, осознания себя, идентификации в условиях глобального и уникального в культуре.
Универсальный эволюционизм, лежащий в основе современной картины мира, требует включенности в нее всей совокупности ценностей мирового культурного развития, поэтому современная наука для обеспечения реальной эффективности создаваемого ею когнитивного пространства должна развить как метод ранее отделенный от нее опыт конструирования коммутирующих целостное знание культурных опосредований. Техницистская цивилизация, с одной стороны, отчуждает человека от традиции, но синхронное сосуществование различных версий традиции конструирует отношение социума к истории, стирает границы между различными культурными практиками. При этом мода становится инструментом властных стратегий, частью маркетингового механизма глобальных корпораций. Помещая образы, созданные в прошлом, в новые контексты, мода актуализирует интерес к различиям, помогая сообществам разного вида институционализации сохранять и презентировать собственное культурное своеобразие.
Исследование выполнено в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. ГК № 14.B37.21.0516.