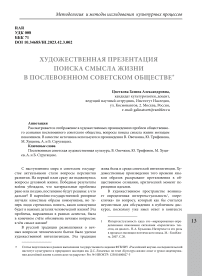Художественная презентация поиска смысла жизни в послевоенном советском обществе
Автор: Цветкова Г.А.
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Методология и методы исследования культурных процессов
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается отображение в художественных произведениях проблем общественного сознания послевоенного советского общества, вопросы поиска смысла жизни молодым поколением. В качестве источника используются произведения В. Овечкина, Ю. Трифонова, М. Хуциева, А. и Б. Стругацких.
Послевоенная советская художественная культура, в. овечкин, ю. трифонов, м. хуциев, а. и б. стругацкие
Короткий адрес: https://sciup.org/170202811
IDR: 170202811 | УДК: 008 | DOI: 10.34685/HI.2023.42.3.002
Текст научной статьи Художественная презентация поиска смысла жизни в послевоенном советском обществе
С наступлением мира в советском государстве актуальными стали вопросы перспектив развития. На первый план сразу же выдвинулись вопросы духовной жизни. Победные результаты войны убеждали, что материальные проблемы рано или поздно, постепенно будут решены: а что дальше? В партийно-государственной риторике звучали известные образы коммунизма, но теперь люди стремились понять, каков коммунизм будет в важных деталях человеческой жизни? Эта проблема, выраженная в разных аспектах, была в конечном счёте обозначена вечным вопросом: в чём смысл жизни?
В русской традиции размышления о вечных вопросах человеческого бытия было уделом художественной интеллигенции. Эта традиция жива была и среди советской интеллигенции. Художественные произведения того времени языком образов раскрывают преткновения в общественном сознании, критический момент переоценки идеалов.
В художественном пространстве возникает определенная интертекстуальность1, «перекличка» по вопросу, который как бы считался неуместным для обсуждения в публичном дискурсе, поскольку уже имел ответ в контексте
Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева» по теме «Культура жизни: опыт и уроки моделирования достойной жизни в советском государстве» Рег. № НИОКТР: 123011600027-5
принятой коммунистической стратегии жизнедеятельности. Это был вопрос о смысле жизни. Послевоенное общественное умонастроение было переполнены этими размышлениями. В разных жанрах литературы, кино, изо, разными средствами искусства поднимается вопрос о смысле жизни. Произведения разных идейных предпочтений и жанров были связаны имплицитным диалогом в поиске ответов на вопрос о смысле жизни, его константах и изменениях в новых условиях, на новом этапе строительства коммунизма.
Начало неудобному вопросу было положено конечно войной. Война стала фактором открытой его постановки и нетривиального обсуждения. Война, заставившая советских людей измерять свое бытие бескомпромиссными параметрами жизни и смерти, тем самым давала право на обновление, переоценку подходов к жизни, её смыслов. Обсуждение началось на исходе войны, в предчувствии Победы. Советская художественная интеллигенция дерзостно открыла тему для публичного диспута.
В. Овечкин2 в своей повести «С фронтовым приветом», которая была написана им в 1944 году от имени солдат-фронтовиков, говорит о войне как факторе обновления мировидения: «Война обострила мысли людей об основах жизни, … научила нас видеть в жизни основное, самое существенное, научила отделять главное от второстепенного. Не знаю, чего сейчас больше в народе — горя, тоски или жажды хорошей жизни»3. Солдат затевает разговор о выборе «основ жизни» «на освобожденной земле»: будет «новая жизнь» и в ней будет «много красоты и радости».
Литературная критика поддержала его тезисы: В. Овечкин «заговорил о том, о чем думают все, — как будем жить после войны?»4. Возможно, солдаты В. Овечкина не знали, чего конкретно они хотели от новой жизни, но общий настрой был на обновление. Разговор о переходе к мирной жизни был смелым прозрением, тогда ещё ясно не осознанных проблем «социалистического образа жизни», которые будут нарастать по мере стабилизации обстановки и аккумулироваться ростом интереса советского человека к поиску смысла жизни.
Объективной предпосылкой стало вступление в жизни нового поколения — молодых людей, которые выросли в социалистических нормативах. Им нужна была новая аргументация советских идеалов. Героями новой жизни были молодые люди. Они определяли будущее. Как они думали о будущем, их логика представлены художественными образами.
Шумный общественный резонанс получили два произведения, схожие по поднятым вопросам и даже, по существу, одинаковыми на них ответами, но по-разному расставленными в них акцентами, что обусловило противоположную реакцию партийных идеологов на эти произведения. Повесть «Студенты» (1950 г.). Ю. Трифонов была удостоена Сталинской премии, а фильм режиссера М. Хуциева «Застава Ильича» (1959) вызвал гнев Н. С. Хрущева.
Подтекстом сюжетной линии произведений как раз была духовная коллизия встречи двух поколений, символично её определяли известным художественным образом «отцов и детей».
Главные герои — это советская молодежь, — в поиске смысла жизни они вступают в диалог с поколением отцов об общественных идеалах и делают это с той прямотой, и откровенностью, право на которые дала война.
В ключевом эпизоде фильма «Застава Ильича», когда в тонком сне главному герою является погибший на войне его отец — в пилотке, плащ-палатке, с автоматом в руках, — сын, который уже старше своего отца и живет в завоеванном отцом мирном времени всё-таки спрашивает у отца: как жить? Короткий разговор отца и сына (отец спешит на свой последний бой) — это предельно напряженный момент для истории советского государства, образ смены поколений советских людей, как Рубикон для вечных и конкретных для советского государства вопросов о смысле жизни. Метафора встречи, диалог о смысле жизни здесь образ исторического разрыва в духовном состоянии общества, сомнение молодых в выраженной солдатом Овечкина убежденности в закономерности будущей радостной жизни. У солдата, который мечтал о мирной жизни спрашивает новое поколение в лице его сына: «Как жить?». У моло- дых нет ясного понимания. О том, что именно их волнует проясняется из споров молодежи, альтернативными суждениями в их кругу.
В повести «Студенты» (1950 г.) главный герой Вадим спрашивает у своей подруги, в чем цель её жизни серьезно. Но она его осаживает, раздраженная неуместностью вопроса как «всякой чепухой»: «Боже, какие громкие слова — «цель жизни»! Мы этим в седьмом классе переболели… Просто наивно! Разве я могу сказать в двух словах обо всех планах, о будущем? Да я и не ломаю себе голову над этим. С какой стати? Я только начинаю жить… Старые студенты, в прежнее время вечно о чем-то спорили: о цели жизни, о высшем благе, о народе, о боге, о всякой чепухе. А нам-то зачем заводить эти абстрактные споры? Я такая же комсомолка, как и ты, у нас одна идеология. О чем нам спорить?… Только, пожалуйста, без фронтовых воспоминаний!.. Потому, что тогда была война. Это другое дело. А вообще, чего ты от меня добиваешься?.. Я хочу жить честно, спокойно, ну… счастливо»5.
Высказанные девушкой мысли почти буквально воспроизводятся и персонажами фильма «Мне двадцать лет» («Застава Ильича»). В диало-ге6 о смысле жизни главный герой говорит о себе: «Я вот тут как-то подумал и понял, что я, например, совершенно правильный человек. Я работаю, собираюсь в институт, принимаю участие в общественной жизни, я агитатор. Но иногда мне кажется, что я живу зря… Правильно, благопристойно, но зря». На это его друг сначала иронизирует: «Да ты простой советский человек!», а потом серьёзно замечает: «Ну, что тебе надо? Ты никого не ограбил, не убил, живи и радуйся».
В этом диалоге сформулирована характеристика как называют сами герои «правильного» или «простого» советского человека: верность идеологии, принадлежность к комсомолу, обязательные работа, учёба и участие в общественной жизни. Идеологически полагалось, что эти параметры были нормативными ступенями советскому молодому человеку в обретении смысл жизни, обеспечивавшего её качественную сторону — радость жизни. На этом основании планирует свою жизнь героиня Трифонова: «Я хочу жить честно, спокойно, ну… счастливо». Оба произведения, их герои, независимо от их роли положительного или отрицательного персонажа формулируют ожидания молодежи от жизни в категориях «радостно и счастливо». Эта жизненная программа выглядит ясной и кажется в советской стране вполне реализуемой, но всё-таки порождает идейный разлад в молодежной среде в понимании смысла жизни. Представляется, что таким образом, запечатлён острый дефицит идейных оснований коммунистического будущего «счастья и радости».
Молодое поколение высказывает суждение, что содержание жизни «честно, спокойно, радостно, счастливо» выражает какую-то неполноценность жизни, как говорит герой: «Но иногда мне кажется, что я живу зря… Правильно, благопристойно, но зря». Молодежь «правильная», разделяет все эти характеристики жизни, но чувствует, что есть какая-то ущербность в «философии жизни», в соответствии с которой надо «всю жизнь радоваться» потому, «что ты не сволочь, что бывает ещё и похуже тебя». Оппоненты этих сомневающихся считают, что не надо «ломать себе голову над этим», «заводить эти абстрактные споры». Они считают, что поиск был уделом прежних времен: «Старые студенты, в прежнее время вечно о чем-то спорили: о цели жизни, о высшем благе, о народе, о боге, о всякой чепухе». Но теперь, когда достигнуты цели революции «О чем нам спорить?», «все мы комсомольцы», «у нас одна идеология» и есть желание следовать норме: «жить честно». В подтверждении этому тезису художественными средствами представлены символы, которые были обоснованием жизненной позиции и правомерности ожиданий «радости и счастья». В фильму М. Хуциева по улице Москвы идут три исторических персонажа — три солдата, олицетворяющие эпоху установления и завоеваний советской власти, а навстречу им — три молодых человека, олицетворяющие её результаты — советская молодежь. Они идут мимо мавзолея «Ленин», что безусловно символично как демонстрация связи поколений и актуальности идеалов отцов. Герой «Заставы Ильича» перечисляет: «Я отношусь серьезно к революции, к песне «Интернационал», к тридцать седьмому году, к войне, к солдатам, и живым, и погибшим, к тому, что почти у всех вот у нас нет отцов, и к картошке, которой мы спасались в голодное время». Молодежь признает важность иметь идеалы: «Если нет вещей, о которых можно говорить всерьез, тогда вообще, наверное, не стоит жить?». Поэтому молодежь ищет параметры новой духовной советской идентичности.
Общественная критика разделяла художественные интуиции в идейной сфере, острую потребность прояснения перспектив: как жить? В прессе звучали одобрительные оценки послевоенной литературы: «О нашем времени говорится прямо, вплотную, о самом главном, что сейчас волнует всех, … о том, как жить, о том, как поколение, которое идет сразу за нами, эти вопросов решает»7.
Было открыто публичное обсуждение тех категорий смысла жизни, о которых знают и говорят и положительные, и отрицательные герои: жить честно и радостно, жить счастливо.
Интерпретация счастья дается в повести Ю. Трифонова «Студенты». Преподаватель разъясняет своим студентам: «Счастье — это «со-частье», доля, пай. Представьте, что какое-то племя закончило удачную охоту. Происходит дележ добычи. Каждый член племени или рода получает свою долю — свое «со-частье»… Если для всего рода охота была удачной, каждый член рода получал свое «со-частье», если была неудачной — не получал ничего. Стало быть, для достижения своего «со-частья» каждый человек должен был всеми силами участвовать в общей охоте, в общем труде. То есть то, что называется участвовать — в общественной жизни. Вот вам и философия личного счастья…Личное сливается вместе с общественным…И тогда у человека бывает настоящее личное счастье. Которого, кстати, никто не отрицает»8.
Эта, в конечном счёте, материально-потребительская трактовка была понятным и доступным для переживших войну образом счастья, но духовная коллизия нового поколения советской молодежи состояла именно в том, что оно уже не удовлетворялось только материальным образом личного счастья. Для молодых: «сытое, благополучное, безмятежное существование — это не жизнь». Можно говорить, что художественная сфера довольно быстро отразила прозрения советского общества по поводу потребительства, что было выражено художественными средствами как полемика в среде молодежи о счастье, реализованном материальными средствами.
Проблема обретения счастья виртуозно обыграна в литературном жанре научной фантастики, в произведениях А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и «Сказка о Тройке».
Авторы отразили искания идеального формата счастья значительно тоньше романов реалистического жанра этого периода, выстроив фантастику поиска счастья на основе кальки теоретических штампов, реализации упрощенно-примитивизированно представленных идеологических догматов построения коммунизма.
В придуманном авторами НИИЧАВО (Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства) сотрудники занимались исследованиями человеческого счастья и смысла человеческой жизни. Стругацкие были защищены жанром фантастики и могли реальные прогнозы возможного «счастья» логически доводить до предельных форм. В НИИЧАВО эксперименты по достижению счастья заключались в моделировании счастливого человека на разных этапах его становления. Так, писатели фантазировали на тему построения коммунизма, понятого как общество, где всем по потребностям, прежде всего.
Эксперимент строится на адекватной советской идеологии рабочей гипотезе счастливого человека. В НИИЧАВО рабочая гипотеза человеческого счастья и смысла человеческой жизни была связана с концепцией о материалистической сущности человека: «Так же как труд превратил обезьяну в человека, точно так же отсутствие труда в гораздо более короткие сроки превращает человека в обезьяну. Даже хуже, чем в обезьяну»9. Здесь пересмешка с идеей о связи счастья и труда, заявленная всерьез и героями Ю. Трифонова, и М. Хуциева, и действительно ключевая для советской идеологии. Счастливы человек будущего — это Человек, обретший счастье в труде — в повести Стругацких это «Люди с большой буквы, девизом их было — «Понедельник начинается в субботу»: работать лучший способ жизни и её смысл. Они считали, что стоило предаться хотя бы на час эгоистическим и инстинктивным действиям (а иногда даже просто мыслям) — они превращались в «добропорядочного мещанина», жизненной философией которого было: «Живем один раз», «Надо брать от жизни всё», «Всё человеческое мне не чуждо»10.
Эти «Люди с большой буквы» умели превращать воду в вино, и каждый из них не затруднился бы накормить пятью хлебами тысячу человек»11. В этой реминисценции Нового Завета сообщение о реализации, решении проблемы материального достатка трудовыми усилиями «познающего разума». Этот футурологический образ людей, обретших счастье в труде, травестируется деятельностью «народного» ученого (невежественного, идеологически прямолинейного), работающего для тех, кто ещё на пути к обретению счастья, экспериментирующего с моделированием человека будущего в двух вариантах: «Моделью человека, неудовлетворенного желудочно» и «Моделью универсального потребителя». Этими моделями, по сути, предлагается моделирование коммунизма, желанного будущего в категориях, понятных для народа, а именно, — удовлетворения потребностей человека, достигнутого посредством материального изобилия.
«Модель человека, неудовлетворенного же-лудочно»12 оформляется этим ученым из НИИ-ЧАВО концептуально, исходя из реального программного положения о растущих потребностях. Ученый декларирует: «Потребности растут, их надо удовлетворять», поскольку это создает предпосылку для реализации цели коммунистического будущего, для главного: «Главное, чтобы человек был счастлив, радостный». Здесь в фантастическом образе воспроизведена, как и у Ю. Трифонова, и у М. Хуциева реальная цель советской коммунистической стратегии: «счастливый, радостный человек». Фантастическая разработка модели счастливого человека последовательно идет по программируемому идеологий маршруту, поэтому вслед за удовлетворением материальных потребностей экспериментатор озабочен проблемой духовных потребностей. В повести план эксперимента изложен карикатурно как иерархия «матпотребностей» и «духпотребностей», профанация марксистской формационной теории:
«Материальное идет впереди, а духовное идёт позади ... Исходя из материалистической идеи о том, что временное удовлетворение матпотребностей произошло, можно переходить к удовлетворению духпотребностей». Эти духовные потребности здесь снижены до пародии: «Посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому и даже почитать какую-нибудь книгу, скажем «Крокодил» или там газету… Ко всему этому надо иметь способности, в то время как удовлетворение матпотребностей особых способностей не требует, они всегда есть, ибо природа следует материализму». Эхом теоретического стереотипа культурной политики о том, что «потребности не удовлетворяются, а формируются» представлены методы формирования «духпотребностей», а именно, — «насильственное внедрение культурных навыков». В фантастическом эксперименте дан вполне реалистический прогноз итогов удовлетворения «матпотребностей», ожидаемые результаты: «Насытившись, «Модель человека, неудовлетворенного желудочно» игнорировала свой духовный мир … и ничего больше не желала»13.
Этой «неудовлетворенной желудочно» модели в фантастическом опыте противопоставлена «Модель универсального потребителя». В НИИЧАВО её экспериментируют как «модель идеального человека, модель счастливого человека», «который всё хочет и всё соответственно может». В разъяснении этого свойства представлено «практическое руководство», которое звучит гротескным гимном культурной политике, доведенной до абсурда упрощением её положений. Автор эксперимента разъясняет: «Она («Модель универсального потребителя») не будет ждать милости от природы. Она возьмёт от природы всё, что ей нужно для полного счастья, т.е. для удовлетворённости. Духовные потребности разовьются в соответствии. Чем больше материальных потребностей, тем разнообразие будут духовные потребности»14. В этом виртуальном опыте ярко представлен казус идеологических преткновений коммунистического будущего, казус послевоенного молодого советского поколения: «идеальный человек», который может получить всё, что хочет, но при этом находится в поиске счастья, не обрёл его.
Художественные произведения предлагали решение в духе идеологической догматики, представляя альтернативу потребительской модели счастливого человека — человека, смысл жизни которого заключался в труде. Это те, для которых «понедельник начинается в субботу», жрецы культа познающего разума. В советской идеологии этот культ был абсолютизирован и выбранный Стругацкими способ подвергнуть его сомнению был единственно возможным тогда. Они поручают критику асоциальному элементу советского общества. Высмеивает, разоблачая культуру, производимую человеческим разумом паразит (в буквальном и переносном смысле) — Клоп — «типичный паразит, то есть праздношатающийся тунеядец без определенных занятий, добывающий средства к жизни предосудительными путями»15, занимающий в воображаемом будущем охранительные позиции, фантастический эколог, хранитель природных законов жизни. Клоп иронизирует: «Человек создает вторую природу… Вторая природа — это костыли калеки… Разум (человеческий) находит наслаждение в переделывании природа сначала окружающей, а в перспективе — и своей собственной… сначала по нужде, а затем по своей прихоти». Этот последний прогноз о познающем разуме — логическое прочтение перспектив «осу-етившегося умствования» (ап. Петр), — сейчас звучит как пророчество. Инвективы клопа против человеческого разума — это и развенчание мифа о человеке как «царе природы», раскрытие амбивалентного смысла труда и познания, бесперспективность блужданий в поисках земного счастья. Клопом, по сути, подвергался анализу имплицитный комплекс проблем, связанных с поиском смысла жизни в послевоенном советском обществе. Приговор беспощаден: «Вы ищите то, что давным-давно найдено, запатентовано и используется с неза памятных времен, а именно: разумное устройство общества и смысл существования»16.
Художественные произведения послевоенного периода в разных жанрах напрямую или косвенно поднимали вопрос о смысле жизни. Это была реакция на общественный запрос. В этом смысле художественная сфера демонстрировала неформальную близость с обществом. Интеллектуальный класс включился в поиск идейных оснований существования и развития советского государства, устройства коммунистического общества как идеальной формы жизни человека. Для послевоенного советского общества, особенно для молодежи, было очень важно обрести идейные ориентиры смысла жизни. Полемика по этому вопросу была бурной, но художественная сфера запечатлела главное — кризисный рубеж в толковании коммунистического будущего. По сути, был зафиксирован тупик материалистического обоснования смысла жизни.
Список литературы Художественная презентация поиска смысла жизни в послевоенном советском обществе
- Овечкин В. С. фронтовым приветом / Т. Хмельницкая. О повести Овечкина "С фронтовым приветом"// Звезда. 1946. № 2-3. С. 163-164.
- Стругацкие А. и Б. Понедельник начинается в субботу / Избранное. М.: Моск. рабочий, 1989.
- Они же. Сказка о Тройке / Избранное. М.: Моск. рабочий, 1989.
- Стенограмма обсуждения фильма Застава Ильича //Искусство кино. 1985, № 11.
- Сценарий фильма "Застава Ильича" // Искусство кино. 1985, № 11.
- Трифонов Ю. В. Студенты. М., 1950.
- Черняховская Ю. Социальная фантастика Аркадия и Бориса Стругацких: политическое прогнозирование в советской культуре // Развитие и экономика. 2014. № 10.