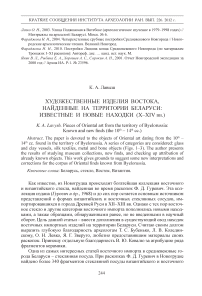Художественные изделия востока, найденные на территории Беларуси: известные и новые находки (X-XIV вв.)
Автор: Лавыш К.А.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Проблемы и материалы
Статья в выпуске: 226, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена объектам восточного искусства, датируемым XI-XIV вв. найденных на территории Белоруссии. Рассматривается ряд категорий: стеклянные и глиняные сосуды, шелковый текстиль, металлические и костные предметы (рис. 1-3). Представлены результаты изучения музейных коллекций, новых находок и проверки атрибуции уже известных объектов. Эта работа дает основания предполагать некоторые новые интерпретации и исправления для тела восточных находок, известных из Белоруссии.
Беларусь, стекло, восток, византия
Короткий адрес: https://sciup.org/14328461
IDR: 14328461
Текст научной статьи Художественные изделия востока, найденные на территории Беларуси: известные и новые находки (X-XIV вв.)
Как известно, из Новогрудка происходит богатейшая коллекция восточного и византийского стекла, найденная во время раскопок Ф. Д. Гуревич. Эта коллекция издана ( Гуревич и др. , 1968) и до сих пор остается основным источником представлений о формах византийских и восточных стеклянных сосудов, импортировавшихся в города Древней Руси в XII–XIII вв. Однако с тех пор восточное стекло и другие категории восточного импорта пополнились новыми находками, а также образцами, обнаруженными ранее, но не введенными в научный оборот. Цель данной статьи – внести дополнения в существующий свод находок восточных импортных изделий на территории Беларуси. Считаю своим долгом выразить глубокую благодарность археологам Т. С. Бубенько, Л. В. Коледин-скому, О. Н. Левко, Я. Г. Зверуго, любезно предоставившим материалы своих раскопок. Приношу отдельную благодарность В. Ю. Ковалю за атрибуцию ряда фрагментов керамики.
Одна из самых интересных статей восточного импорта в средневековые города Беларуси – стеклянная посуда. При раскопках Ф. Д. Гуревич в Новогрудке найдено более 340 фрагментов стеклянной посуды византийского и восточного происхождения. Примерно 70 из них относятся к восьми сосудам, изготовленным в мастерских Сирии (Ракка, Алеппо). Остальные фрагменты принадлежат более чем 40 сосудам из Византии. Среди других средневековых городов Беларуси находками византийского и восточного стекла выделяется Туров, но там их намного меньше, чем в Новогрудке, – 15 (Полубояринова, 1963. С. 235, 238. Рис. 2, 1–8, 12). Фрагменты восточной стеклянной посуды найдены также в Гродно, Слониме, Волковыске, Витебске, Друцке, Мстиславле, Полоцке.
Среди найденного в Новогрудке сирийского стекла выделяется группа сосудов, расписанных золотом и эмалью, которые Ф. Д. Гуревич отнесла к изделиям Ракки и Алеппо. Формы сосудов представлены в основном кубками ( Гуревич и др. , 1968. С. 12. Табл. VIII; IX). Особый интерес представляет фрагмент кубка с росписью золотом и темно-красной эмалью ( Бубенько , 1993. С. 24. Рис. 51). На нем сохранилось изображение святого и нижняя часть фриза с арабской или псевдоарабской надписью (рис. VII, 2 , см. цв. вклейку). Изображение святого выполнено свободно, немного небрежно, одежда показана крупными пятнами темно-красной эмали и золота. Черными линиями обозначены черты лица и детали одежды, а также обведены контуры фигуры и букв надписи, расположенной фризом над изображением святого.
Наиболее вероятно сирийское производство этого сосуда, на что указывает роспись золотом и эмалями по бесцветному прозрачному стеклу, которая характерна для сирийской традиции. Византийские мастера предпочитали роспись по цветному стеклу. Близкими аналогиями этому фрагменту являются сосуды из Балтиморского музея, музея Бенаки в Афинах, Лувра и Эрмитажа, которые были изготовлены около 1260-х гг. сирийскими мастерами для христианских заказчиков ( Georgopoulou , 1999. P. 299–321; Пиотровский , 2008. С. 18). Сосуды из Балтиморского музея, музея Бенаки в Афинах и Лувра представляют собой кубки очень распространенной в средневековье формы – это расширяющиеся кверху стаканы на кольцевом валике, расписанные золотом и эмалями, с изображением фигур с нимбами и фризами с арабскими надписями. Сосуд из Эрмитажа отличается по форме от упомянутых выше образцов и представляет собой рог, вставленный в более позднюю европейскую оправу, но также расписан эмалями и золотом. Силуэт одной из изображенных на нем фигур, наклон головы и трактовка нимба двумя параллельными линиями не совсем правильных очертаний достаточно близки изображению святого на новогрудском фрагменте. Однако тип лица изображенных персонажей существенно отличается: в одном случае (фрагмент из Новогрудка) – греческий, в другом (сосуд из Эрмитажа) – восточный.
Остальные фрагменты сирийских стеклянных сосудов с росписью эмалями и золотом, выявленные во время раскопок Т. С. Бубенько в 1992 г., мелки и не содержат сюжетной орнаментации. Один из них является фрагментом венчика сосуда из бесцветного прозрачного стекла с арабской надписью, выполненной синей и белой эмалями, по краю венчика роспись дополнена точками из белой и красной эмали (Новогрудский историко-краеведческий музей). На другом фрагменте, также бесцветного прозрачного стекла, сохранилась часть орнаментального фриза, ограниченного сверху и снизу двумя линиями. В орнаментации фриза угадываются округлые растительные формы, выполненные бурой эмалью, и тонкие, свободно переплетающиеся золотые линии (Бубенько, 1993. С. 24, 38. Рис. 50, 4). Еще три фрагмента бесцветного прозрачного стекла украшены росписью золотом, сильно стершейся (Там же. С. 4, 24, 40. Рис. 50, 1, 10, 11). К ним примыкает фрагмент из такого же стекла с росписью золотом и красной эмалью (Там же. С. 24, 38. Рис. 50, 3). Эти фрагменты объединяют очертания растительных завитков, выполненных золотом, округлых и изысканно заостренных на концах. Еще один фрагмент принадлежит сосуду со сложной системой декорирования (Там же. С. 21, 36. Рис. 50, 7). По сторонам выпуклого валика красно-коричневой эмали, очерченного с двух сторон золотыми линиями, расположена арабская надпись, с одной стороны – золотом на синем фоне, с другой – темно-серой эмалью на сером фоне. Еще один фрагмент из бесцветного стекла расписан синей и красной эмалью.
В Минске найден фрагмент стенки сирийского сосуда из тонкого бесцветного стекла с росписью золотом (раскопки Г. В. Штыхова). На нем сохранилось изображение крыла и лапок птицы, а также поясок, состоящий из комбинации зигзага и полосок (Археологическая научно-музейная экспозиция Института истории НАН Беларуси). Восстановить форму сосуда по этому фрагменту, к сожалению, не представляется возможным.
М. Д. Полубояринова, проводившая раскопки в Турове, отнесла к сирийским стеклам несколько фрагментов ( Полубояринова , 1963. С. 235, 238. Рис. 2, 1, 2, 7, 8 ). Особенно интересен фрагмент бесцветного стекла с изображением головы лани. Изображения животных, причем в очень сходной с туровским образцом манере, часто встречаются на сирийских сосудах XII–XIII вв. из Ракки и Алеппо ( Там же . С. 238).
Фрагменты арабских расписных кубков найдены в Мстиславле ( Алексеев , 1980. С. 89. Рис. 12). Они имеют такую же форму, как кубки из Новогрудка. На одном из них удается проследить роспись, состоящую из двух орнаментальных фризов и арабских надписей. В отличие от находок из Новогрудка, нет характерной красной контурной линии поверх золотой росписи.
Еще одна находка происходит из Слонима (рис. VII, 3 ). Это небольшой фрагмент тонкостенного стеклянного сосуда, окрашенного изнутри горизонтальными полосами розового и голубого цвета. На нем арабская надпись золотом, значительно стершаяся. Из нескольких слов В. А. Крачковская прочла только два: «С-алим … ученый» ( Пех , 1966. С. 279). Роспись по бесцветному стеклу с обеих сторон (внешней и внутренней) золотом и эмалями характерна для сирийских сосудов стиля «мамлюк» из Алеппо, самые ранние из которых датируются 1279 г., а основная масса относится к 1293–1341 г.1
Фрагменты сирийских стеклянных сосудов из прозрачного бесцветного стекла с росписью эмалями и золотом найдены в Друцке и Гродно (Гурэвiч, 1989. С. 15, 16; Ляўко, 2000. С. 97). На трех фрагментах из Друцка сохранился псевдоэпиграфический фриз, выполненный голубой, темно-красной, белой эмалями и золотом (рис. VIII, 2, см. цв. вклейку). Из Гродно происходит 14 фрагментов прозрачного бесцветного стекла с росписью розовой, зеленой, голубой и белой эмалями, которые принадлежат нескольким сосудам (рис. VIII, 1). Мотивы росписи трудно определить, можно только сказать, что это был растительный орнамент. На некоторых фрагментах видны бутоны или почки, завитки. Находки из Друцка и Гродно объединяют достаточно большая толщина стенок сосудов, расписанных эмалями, способ нанесения эмали густым слоем, довольно широкие линии росписи. Несмотря на фрагментарность находок, создается впечатление стилистического единства росписи, свободной и немного тяжеловатой.
К этой группе близки три фрагмента сосуда из бесцветного прозрачного стекла, найденные в Витебске. Сосуд, которому они принадлежали, также имел достаточно толстые стенки. На них сохранилась часть фриза с арабской надписью, выполненной синей эмалью и золотом ( Ткачев, Колединский , 1978. С. 155).
Фрагменты сосудов другого типа найдены в Волковыске (раскопки Я. Г. Зверуго, 1960–1970-е гг.). Это сосуды из синего прозрачного стекла, декорированные белыми непрозрачными полосами (рис. VII, 1 ). Они относятся к египетскому или сирийскому производству XIII в. Таким же образом декорирован флакон для духов из Национального музея Кувейта и миса с крышкой из музея Метрополитен (Искусство ислама, 1990. С. 63, 64. № 64; Ettinghausen et al. , 2007. S. 254. № 421). Сплошной декор белыми непрозрачными полосками соответствует технике сердечника, известной египетским стеклоделам уже во II тыс. до н. э. Эта техника заключается в накручивании непрозрачных стеклянных нитей на предмет, который прокатывается по мраморной плитке, когда он еще горячий и присоединен к трубке для выдувания. Перистый рисунок получается при изгибании нитей инструментом, похожим на гребень. Такое крученое или волнистое расположение нитей можно получить также, нанося их на вещи с ребристыми стенками, как в случае с находками из Волковыска: на многих из фрагментов отчетливо видны грани сосуда. Применявшаяся сирийцами в римский период, эта техника вновь получила широкое распространение в исламское время, в XI–XIII вв., особенно в Египте и Сирии. Четыре фрагмента тонкостенного сосуда из темно-фиолетового стекла с аналогичным декором найдены в Полоцке (Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник).
В отличие от изделий из стекла, образцы восточной керамики, происходящие с территории Беларуси, не так известны. Отчасти это связано с меньшим количеством находок и, видимо, меньшим знакомством археологов с восточной керамикой. Они реже публиковались, были нередки случаи неверной атрибуции. Подавляющее большинство находок, введенных в научный оборот, связано с Новогрудком, фрагменты керамики из других городов оказались почти не замеченными. В последнее время появляются новые находки, производится проверка атрибуций и датировок известных образцов восточной керамики (работы В. Ю. Коваля), кроме того, во время осмотра археологических коллекций музеев удается выявить фрагменты, еще не введенные в научный оборот.
Среди импортной поливной керамики, найденной на территории Беларуси, можно выделить несколько групп. Особенно выделяются иранская керамика с люстровой росписью и керамика «минаи», употреблявшаяся в быту средневековой элиты. Эти техники росписи требуют двойного обжига и дорогих ингредиентов.
На территории Беларуси фрагменты люстровых фаянсов обнаружены в Новогрудке, Волковыске, Мстиславле. В Новогрудке найдены фрагменты, принадлежавшие приблизительно 10 сосудам, большинство из них происходит из Ирана, относится к «миниатюрному» и «кашанскому» стилям и датируется последней третью XII – первой четвертью XIII в. Среди них можно выделить несколько чаш на поддоне, часть фигурного сосуда и некоторые другие формы. Роспись сосудов двухсторонняя; люстровая роспись нередко дополнена синей подцветкой кобальтом ( Гуревич , 1968. С. 35. Рис. 1). Преобладающее большинство иранского фаянса представлено чашами, расписанными растительным орнаментом ( Гуревич , 1974. С. 95, 96. Рис. 33, 5 ).
Девять фрагментов иранских люстровых сосудов происходят из Волковыска (Волковысский военно-исторический музей им. П. И. Багратиона, Национальный музей истории и культуры Беларуси). Шесть из них принадлежат нескольким сосудам, украшенным односторонней росписью желтым люстром с зеленоватым оттенком (рис. IX, 6, 7 , см. цв. вклейку). Орнамент росписи – мелкий растительный с участием геометрических элементов (зигзаг, полоски). Один из этих фрагментов является частью узкого горлышка (диаметр – 3 см) небольшого сосуда, видимо флакона. Два фрагмента принадлежат толстостенным сосудам, декорированным с двух сторон: с внешней – росписью желто-коричневым люс-тром, с внутренней – прозрачной синей поливой (рис. IX, 8 ). Еще один фрагмент толстостенного сосуда расписан темно-красным люстром (рис. IX, 9 ).
В Мстиславле (строительный ярус 30–40-х гг. XIV в.) найден фрагмент фаянсовой чаши с люстровой росписью, который Л. В. Алексеев отнес к производству иранских центров ( Алексеев , 1995. С. 156). Однако В. Ю. Коваль, который провел сплошную проверку атрибуций и датировок известных образцов керамики восточного происхождения, пришел к выводу, что значительная часть люстровой керамики, приписывавшейся ранее производству Ирана, происходит из Сирии. Сирийские люстровые сосуды отличались применением прозрачной, зачастую окрашенной глазури и своеобразными орнаментальными схемами, включающими гравировку по сырому люстру. К сирийским люстровым сосудам В. Ю. Коваль относит и мстиславльский фрагмент ( Коваль , 1997а. С. 10).
Сирийское происхождение имеет также группа фрагментов из Новогрудка, в том числе придонная часть чаши с рельефным изображением хищной птицы, окрашенной кобальтом и марганцем, отнесенная ранее Ф. Д. Гуревич к производству Ирана ( Гуревич , 1981. С. 41. Рис. 29, 2 ). После исследования В. Ю. Коваля стало ясно, что эти фрагменты принадлежат керамике типа «лакаби» . Фрагмент керамики «лакаби» с синей подцветкой кобальтом найден также в Гродно.
В Гродно обнаружен фрагмент керамики типа «минаи» (Иран, конец XII – начало XIII в.). Он является частью тарелки (рис. IX, 1 ), края которой украшены «чешуйчатым» орнаментом, выполненным черным контуром на бирюзовом фоне, а дно – рисунком в виде пчелиных сот с синими, бирюзовыми и красными ячейками, обведенными черным контуром на белом фоне ( Воронин , 1954. С. 60).
Еще одна категория восточной импортной керамики – золотоордынская керамика. На территории Беларуси найдены фрагменты самой распространенной ее группы – кашинной керамики с рельефной моделировкой поверхности и полихромной подглазурной росписью. Они выявлены в Новогрудке, Луком-ле, Слониме, Друцке, Гродно (Гуревич, 1981. С. 110. Рис. 89, 2; Штыхов, 1969. С. 321, 339. Рис. 15, 6). Это мелкие фрагменты чаш с орнаментом, выполненным темно-зеленым контуром на светло-сером фоне и дополненным синими точками. На фрагменте из Лукомля прочитывается растительный орнамент (рис. IX, 4, 5), на фрагментах из Новогрудка и Слонима – косая сетка, выполненная синим кобальтом. Наружная сторона во всех случаях декорирована стилизованным изображением лотоса.
На территории Беларуси найдено еще несколько фрагментов золотоордынской керамики других типов (фрагмент чаши или тарелки из белого рыхлого кашина с подглазурной коричневато-серой росписью зигзагообразным орнаментом из Новогрудка – рис. IX, 3 , фрагмент сосуда из мягкого белого кашина с бирюзовой прозрачной поливой из Друцка). Скорее всего, золотоордынская керамика проникала на территорию Беларуси не столько по торговым путям, сколько в качестве личного имущества татар ( Коваль , 1997б. С. 17). Первые свидетельства о татарах на землях Великого княжества Литовского относятся к началу XIV в.: в 1316 и 1319 гг. татары принимали участие в битвах Гедимина с Тевтонским орденом. Возможно, после окончания походов часть их осталась на постоянной военной службе в Великом княжестве Литовском, где их высоко ценили как отличных воинов. Массовое переселение татар на земли княжества началось при Витовте (1392–1430). В самой Орде в это время были междоусобные войны между наследниками Чингисхана. Неизвестный автор «Трактата о польских татарах» («Risale-i Tatar-i Lech», 1558 г.), предназначавшегося для Сулеймана Великолепного, писал: «Семьи нашего рода, уставшие от беспокойной жизни, переселились в ту сторону» ( Muchliński , 1858. S. 250). Об этом же сообщал в 1427 г. в письме на имя великого магистра Тевтонского ордена Павла фон Руссдорфа великий князь Витовт. Он писал, что на территорию его государства прибыло множество татар, которые в Литве ищут спокойствия ( Гришин , 2000. С. 5–8). Важно отметить, что география находок золотоордынской керамики на территории Беларуси совпадает с первыми татарским осадами в Великом княжестве Литовском (в районе Вильно, Гродно, Лиды, Новогрудка, Крева, т. е. в северо-западных частях современной Беларуси).
Еще одна значительная статья восточного и византийского импорта в средневековых городах Беларуси - шелковые ткани. По З. М. Сергеевой, на территории Беларуси фрагменты шелковых тканей выявлены в 16 археологических памятниках: Лисно, Путилковичах, Полеевке, Виркове, Азарянах, Новом Быхо-ве, Мстиславле, Влазовичах, Минске, минских курганах, Новогрудке, Гродно, Гарожах, Давид-Городке, Мозыре, Бресте. Большинство шелковых тканей – византийского производства, они найдены в 12 пунктах из 16 учтенных (Лисно, Минске, Виркове, Мстиславле, Влазовичах, Гродно, Бресте, Новогрудке, Путил-ковичах, Азарянах, Новом Быхове, Мозыре). Кроме того, фрагменты шелковых тканей обнаружены в кургане у д. Каменка под Новогрудком (Археологический музей в Кракове) и в кургане возле Друцка, содержавшего 38 захоронений (раскопки О. Н. Левко 2008–2009 гг.). Они представляют собой тканные золотыми или серебряными нитями либо украшенные вышивкой шелком венчики и воротнички (Левко, Войтехович, 2010. С. 375. Рис. 3, 1–4). Находки шелковых тканей сосредоточены в бассейне Днепра и его притоков, что указывает на путь их движения. Почти половина всех фрагментов происходит из курганных захоронений, остальные – из городских культурных слоев (Сергеева, 1996).
Согласно систематизации М. В. Фехнер (1971. С. 214), орнаментированные шелковые ткани, найденные на территории Беларуси, можно разделить на 3 группы: с вытканным узором, шелковые золототканые ленты и гладкие ткани без узора. В замке города Кукенойс (современная Латвия), центра княжества, зависимого от Полоцкого княжества, в культурном слое XI в. найдена богато орнаментированная ткань с изображением птиц, сидящих на ветвях древа жизни, сердцевидных пальметт и других растительных мотивов. По мнению Э. С. Мугуревича, эта ткань средневосточного происхождения ( Мугуревич , 1965. С. 78. Табл. XIV).
Немногочисленной группой восточного импорта в средневековых городах Беларуси являются изделия из металла. Среди них – найденный в Слониме в слоях XI–XIV вв. небольшой изящный медный кувшинчик с округлым туловом, узким горлом и расширяющимся венчиком ( Зверуго , 1972. С. 269. Рис. 21). Шейка, тулово и придонная часть сосуда украшены четырьмя поясками из двух параллельных линий. Сходный по форме бронзовый кувшин обнаружен в Новгороде в слое конца XI – начала XII в. и, по определению М. Е. Массона и М. М. Дьяконова, происходит из Средней Азии ( Даркевич , 1976. С. 51). На территории Верхнего замка в Полоцке найдена маленькая бронзовая фигурка птички, которая, по всей вероятности, является деталью кувшина восточного происхождения, служившей упором для большого пальца, или светильника (рис. IX, 2 ). Датируется она предположительно XII в. ( Раппопорт, Шолохова , 1981. С. 98).
В Заславле, в кургане 2 группы VII (погребение по обряду ингумации), найдена бронзовая булава (Заяц, 1995. С. 70. Рис. 50). Ударная часть булавы имеет форму куба с четырьмя пирамидальными шипами и расположена на длинной цилиндрической втулке, расширяющейся к концам. Сверху и снизу ударной части булавы, там, где она соединяется с втулкой, расположено по два пояска. Бронзовый корпус булавы залит свинцом, причем заполнена не только ударная часть, но и верхняя часть втулки, через которую осуществлялась заливка свинца и где остался его наплыв (Плавинский, 2009. С. 363, 364). Булава относится к древнейшему для Руси типу булав – типу I, по А. Н. Кирпичникову, который он датировал IX (?) – XI вв., склоняясь скорее к XI в. (Кирпичников, 1966. С. 48, 54. Табл. 14). Курганная группа, к которой принадлежит этот курган, автор раскопок датирует концом X – началом XI вв. (Заяц, 1995. С. 70. Рис. 50), другие исследователи (А. В. Войтехович) склонны относить ее скорее к середине XI в. Близкие аналогии заславльской булаве известны из памятников, связанных со степной традицией; это бронзовая булава из Цимлянского городища (Сар-кел – Белая Вежа), датированная А. Н. Кирпичниковым (1966. С. 48, 130, 131. Табл. XXVI, 5) IX–X вв., и бронзовая булава X–XI вв. из Билярского городища в Волжской Болгарии (Измайлов, 1997. С. 97. Рис. 66, 1; 67. Табл. Х, 1). Аналогичные булавы найдены также на о. Хортица, Северном Кавказе, в Дунайской Болгарии, Хорватии (Кирпичников, 1966. С. 48), в слое первой четверти XII в. Троицкого XII раскопа в Новгороде, а также в Гретлингбо на Готланде (Волков, 1999. С. 107–110. Рис. 1, 2). Принимая во внимание редкость находок булав этого типа на Руси, не характерную для славян форму навершия с длинной втулкой и материал (бронза, а не железо), И. В. Волков считает, что новгородская булава является в Новгороде привнесенным (в результате торговли, военных походов или иных этнических контактов) с Юго-Востока предметом, возможно, из прикаспийского региона, а ее находку в слоях начала XII в. объясняет пережиточным бытованием этого необычного для Северо-Западной Руси типа, где она помимо боевой функции могла выполнять также парадную (Волков, 1999. С. 109). Подобная версия может быть соотнесена и с заславльской булавой. Учитывая близкие аналогии, связанные со степной традицией и Юго-Востоком, и раннюю хронологию, можно предположить ее импортное происхождение.
На территории Беларуси найдены и костяные изделия, связанные с кругом Золотой Орды и кочевой степи: накладки на колчан из Минска, Друцка, Мсти-славля, Волковыска, Турова, Бреста, Гродно и Новогрудка, изделие в форме головы барана из кургана 34 могильника возле д. Новые Волосовичи Лепельского р-на Витебской обл. Самым ранним изделием, связанным со степным кругом, является изделие из кургана возле д. Новые Волосовичи ( Вайцяховіч , 2006. С. 95). Оно фрагментировано, сохранились головка барана на длинной шее, с большими загнутыми вниз рогами, ручка и еще два небольших фрагмента (рис. VIII, 3 ). Его поверхность украшена плетенкой, сеткой, зигзагом и циркульным орнаментом. Достаточно близкая аналогия этому предмету происходит из Салтовско-го могильника. Это также головка барана с большими загнутыми вниз рогами, которая являлась, по мнению С. А. Плетневой, амулетом-онгоном ( Плетнева , 1967. С. 172, 173. Рис. 47, 3 ).
Костяные накладки на колчан, найденные на территории Беларуси, объединены сходной формой узких вытянутых пластин, общим характером и приемами орнаментации, где использованы геометрические, растительные и зооморфные мотивы. Они принадлежат к золотоордынскому кругу и имеют аналогии среди костяных накладок на колчан XIII–XIV вв., найденных в Поволжье. Находки колчанов с костяными накладками происходят из Поволжья, Поднестро-вья, Подонья, Нижнего Поднепровья, ряда славянских городов, Побужья, Крыма, Северного Кавказа, Урала, Казахстана. Наибольшее число находок, почти половина, приходится на Нижнее Поволжье, причем это самые интересные и богато орнаментированные образцы. Исследователи (Г. А. Федоров-Давыдов, С. А. Плетнева, Н. В. Малиновская) пришли к выводу, что они датируются XIII– XIV вв. и соотносятся с золотоордынской традицией. В более ранних погребениях кочевников такие колчаны не встречаются ( Малиновская , 1974. С. 132, 133, 160). Большинство находок происходит из половецких погребений XIII–XIV вв., однако они встречаются и в могилах печенегов и торков, свидетельствуя о том, что такие колчаны были общими для всех степных народов Золотой Орды. По мнению Н. В. Малиновской, резные накладки на колчан изготавливались для степных воинов в золотоордынских городах ( Там же . С. 164, 169–174).
Среди находок в средневековых городах Беларуси выделяется группа костяных накладок на колчан с мотивом оленя. На накладках из Турова и Бреста орнамент расположен горизонтальными поясами на поверхности вытянутой по вертикали узкой прямоугольной пластины. На брестской находке в нижнем поясе пластины изображен лежащий олень с подогнутыми ногами и большими разветвленными рогами (Лысенко, 1985. С. 279. Рис. 190, 4). Изображение вы- полнено схематично. Выше расположены два горизонтальных пояска, составленные один из ромбиков, другой – из косых крестиков, они разделены двумя неорнаментированными поясками, над ними – растительный орнамент, от которого сохранился только один завиток, далее пластина обломана. Пластина располагалась на колчане с левого края, поскольку с правой ее стороны есть широкая закраина, что указывает на то, что справа к ней монтировалась центральная пластина, покрывавшая эту закраину. Брестская находка по организации орнамента и орнаментальным мотивам очень близка пластинам, украшавшим колчан из позднекочевнического погребения XIII–XIV вв. (к. 14, п. 1) у с. Сидоры (Михайловский р-н Волгоградской обл.) (Культура средневековых кочевников… 2001. С. 19. Кат. 59; Малиновская, 1974. С. 154. Табл. VIII, 2). На пластине из Турова в нижней части также помещено изображение лежащего оленя, только более компактное по очертаниям, с небольшими рогами (Очерки по археологии Белоруссии, 1972. С. 103. Рис. 38, 1–3). Фон изображения покрыт косой штриховкой. В верхней части пластины помещен спиральный растительный элемент, который делит плоскость по вертикали на две части, одна из которых заполнена косой штриховкой. Поскольку олень обращен головой вправо, то, по аналогии с пластинами, украшавшими колчан из с. Сидоры, эта пластина могла быть либо левой, либо центральной. Расположение растительного побега в ее верхней части указывает, скорее, на то, что она была крайней слева. Вторая аналогичная пластина из Турова, орнаментированная в верхней части точно так же (нижняя часть не сохранилась), тогда была расположена справа. Как известно благодаря находкам колчанов в позднекочевнических погребениях, две боковые пластины были симметричными и одинаково декорированными. Третья пластина из Турова располагалась с края колчана, окаймляя боковую пластину основного набора. Она декорирована зигзагом, который делит ее узкую поверхность на два ряда треугольников, один из которых покрыт косой штриховкой. В Бресте найден еще один фрагмент костяной накладки на колчан – нижняя часть пластины с изображением стоящего оленя на фоне, покрытом косой штриховкой и пояском геометрического орнамента, который окаймляет нижний край.
Выраженные степные кочевнические черты имеет костяная пластина из Минска ( Алексеев , 1962. С. 205. Рис. 6, 1 ). Она узкой вытянутой прямоугольной формы, украшена геометрическим орнаментом и характерным спиралевидным мотивом. Три зоны, орнаментированные поясками из зигзагов, ромбиков и кружков, выполненными выемчатой техникой, чередуются с двумя ажурными участками, один из которых украшен характерной для искусства кочевого мира волютообразной спиралью, а другой – сеткой четырехлепестковых косых крестиков.
При раскопках детинца в Друцке в слое XIII в. был найден фрагмент костяной накладки степного кочевнического облика ( Там же . С. 208, 209. Рис. 6, 3, 4 ). На нем сохранились четыре горизонтальных орнаментальных пояска, верхний из которых состоит из зигзага, второй составлен из двух соприкасающихся зигзагов, третий и четвертый построены при помощи выемчатых мелких треугольников и ромбов, которые образуют косую сетку. Все пояски отделены друг от друга неорнаментированными полосками.
Накладки из Волковыска, Лукомля, Мстиславля, Гродно и Новогрудка, обладающие выраженными кочевническими чертами, при этом несут отпечаток и древнерусской косторезной традиции, демонстрируя своеобразное смешение традиций. Ближе всего к кочевнической традиции шесть пластин из Мстислав-ля, которые составляли один набор. Основную часть орнаментированной поверхности занимает характерный для кочевников геометрический орнамент, а в нижней части центральной пластины находится изображение сдвоенных (с общим телом) кошачьих хищников (львов или барсов). Головы их динамично повернуты друг к другу, в пасти они держат две человеческие головы в шапках. Изображение выполнено врезанной неглубокой контурной линией, уверенно и искусно. Такой фантастический зооморфный мотив необычен для золотоордынских костяных накладок на колчан, тем не менее его можно соотнести с зооморфными мотивами (в основном кошачьими хищниками) накладок из с. Верхнее Погромное (Малиновская, 1974. С. 149, 150, 156, 158. Табл. IV). На накладках из Волковыска и Лукомля орнамент расположен вдоль длинной стороны пластины (Зверуго, 1975. С. 56. Рис. 18, 9; Пластыка Беларусі… 1983. Ил. 11). Орнаментация известных накладок на колчан построена по противоположному принципу – горизонтальными поясами на поверхности узкой вертикальной пластины. Возможно, эти накладки украшали какой-либо иной предмет, или это могли быть местные вариации на кочевнические темы.
Наличие многочисленных и разнообразных предметов восточного импорта свидетельствует о направленности и характере художественных вкусов населения средневековых городов Беларуси. Восточные импортные изделия повлияли на эстетическое восприятие местного населения, служили образцами для местных мастеров и таким образом сыграли важную роль в распространении восточных мотивов в искусстве средневековых городов Беларуси X–XIV вв.
Список литературы Художественные изделия востока, найденные на территории Беларуси: известные и новые находки (X-XIV вв.)
- Алексеев Л. В., 1962. Художественные изделия косторезов из древних городов Белоруссии//СА. № 4.
- Алексеев Л. В., 1980. Смоленская земля в IX-XIII вв. М.
- Алексеев Л. В., 1995. Древний Мстиславль в свете археологии//Пстарычна-археалапчны зборшк. № 6.
- Бубенько Т. С., 1993. Отчет о полевых исследованиях на Замковой горе в г. Новогрудке Гродненской области в 1992 г.//Архив Института истории НАН Беларуси. Д. 1478.
- Вайцяховiч А. В., 2006. Курганны могiльнiк каля вескi Новыя Валосавiчьi Лепельскага района//Материалы по археологии Беларуси. Минск. Вып. 11: Древности Беларуси в системе межкультурных связей.
- Волков И. В., 1999. Бронзовая булава из раскопок 1998 г. в Новгороде//Новгород и Новгородская земля: История и археология. Великий Новгород. Вып. 13.
- Воронин Н. Н, 1954. Древнее Гродно//МИА. № 41.
- Гришин Я. Я., 2000. Польско-литовские татары. Казань.
- Гуревич Ф. Д., 1968. Ближневосточные изделия в древнерусских городах Белоруссии//Славяне и Русь. М.
- Гуревич Ф. Д., 1974. Некоторые итоги археологического исследования детинца древнего Ново-
- грудка//КСИА. Вып. 139. Гуревич Ф. Д., 1981. Древний Новогрудок. Окольный город. Л.
- Гуревич Ф. Д., Джанполадян Р. М.,Малевская М. В., 1968. Восточное стекло в древней Руси. Л.
- Гурэвiч Ф. Д., 1989. З гiсторьii старажытных кантактау//Помнiкi гiсторьii i культуры Беларусi. Мiнск. № 1.
- Даркевич В. П., 1976. Художественный металл Востока. М.
- Заяц Ю. А., 1995. Заславль в эпоху феодализма. Минск.
- Зверуго Я. Г., 1972. Археологические работы в Слониме//Беларускiя старажытнасщ: Мат-лы канф. археалогii БССР i сумежных тэрыторый. Мiнск.
- Зверуго Я. Г., 1975. Древний Волковыск X-XIV вв. Минск.
- Измайлов И. Л., 1997. Вооружение и военное дело населения Волжской Булгарии X -начала XIII в. Казань-Магадан.
- Искусство ислама: Каталог выставки/Науч. ред. А. А. Иванов. Л., 1990.
- Кирпичников А. Н., 1966. Древнерусское оружие. Вып. 2: Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX-XIII вв.//САИ. Вып. Е1-36.
- Коваль В. Ю., 1997а. Керамика Востока и Византии на Руси (конец IX -XVII вв.): Автореф. дис.... канд. ист. наук. М.
- Коваль В. Ю., 1997б. Керамика Востока в Древней Руси//Тр. VI международного конгресса славянской археологии. М. Т. 1: Проблемы славянской археологии.
- Культура средневековых кочевников и городов Золотой Орды: Каталог. Волгоград, 2001.
- Левко О. Н., Войтехович А. В., 2010. Курган с массовыми погребениями XII в. в Друцке//Археологiя i давня iсторiя України. Київ. Вип. 1: Проблеми давноруської та середньовiчної археологiї.
- Лысенко П. Ф., 1985. Берестье. Мiнск.
- Ляуко В. М., 2000. Новыя археалапчныя даследаваннi Друцка i яго акругi//Друцк старажытны. Мiнск.
- Малиновская Н. В., 1974. Колчаны XIII-XIV вв. с костяными орнаментированными обкладками на территории евразийских степей//Города Поволжья в средние века. М.
- Мугуревич Э. С., 1965. Восточная Латвия и соседние земли в X-XIII вв. Рига.
- Очерки по археологии Белоруссии. Мижк, 1972. Ч. 2.
- Пех Г. И., 1966. Раскопки древнего Слонима//Беларускiя старажытнасщ: Мат-лы канф. археалогii БССР i сумежных тэрыторый. Мiжк.
- Пиотровский М. Б., 2008. Мусульманское искусство: Между Китаем и Европой/Гос. Эрмитаж. СПб.
- Плавинский Н. А., 2009. Булавы конца X -XIII вв. на территории Беларуси//Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков.
- Пластыка Беларусi XII-XVIII стст.: Альбом/Аут. i склад. Н. Ф. Высоцкая. Мiнск, 1983.
- Плетнева С. А., 1967. От кочевий к городам: Салтово-маяцкая культура. М.
- Полубояринова М. Д., 1963. Стеклянная посуда древнего Турова//СА. № 4.
- Раппопорт П. А., Шолохова Е. В., 1981. Дворец в Полоцке//КСИА. Вып. 164.
- Сергеева З. М., 1996. О распространении шелковых тканей в памятниках X-XIII вв. Беларуси//Пстарычна-археалапчны зборнiк. № 8.
- Ткачев М. А., Колединский М. В., 1978. Отчет о полевых исследованиях на Верхнем Замке древнего Витебска//Архив Института истории НАН Беларуси. Д. 717.
- Фехнер М. В., 1971. Шелковые ткани как источник для изучения экономических связей Древней Руси//История и культура Восточной Европы по археологическим данным. М.
- Штыхов Г. В., 1969. Раскопки в Лукомле в 1968-1969 гг.//Древности Белоруссии: Докл. к конф. по археологии Белоруссии. Минск.
- Ettinghausen R., Grabar O., Jenkins-Madinan M., 2007. Sztuka i architektura islamu 650-1250. Warszawa.
- Georgopoulou M., 1999. Orientalism and Crusader Art: Constructing a New Canon//Medieval Encounters. 5/3 (1999).
- Muchlmski A., 1858. Zdanie sprawy o tatarach litewskich//Teka Wiska. № 4.