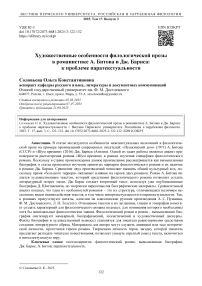Художественные особенности филологической прозы в романистике А. Битова и Дж. Барнса: к проблеме паратекстуальности
Автор: Соловьева О.К.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются особенности межтекстуальных включений в филологической прозе на примере произведений современных писателей: «Пушкинский дом» (1971) А. Битова (СССР) и «Шум времени» (2016) Дж. Барнса (Англия). Одной из задач работы является анализ правомерности рассмотрения романа «Шум времени» в рамках изучения специфики филологического романа. Поскольку в стране происхождения данное произведение рассматривается как вымышленная биография, в статье проводится изучение принятых маркеров филологического романа и их наличие в романе Дж. Барнса. Сравнение двух произведений позволяет выявить общий культурный код, поскольку время «большого террора» оказывает влияние на героев двух романов. Роман А. Битова является художественным текстом, который средствами филологического романа позволяет создать литературный потрет эпохи. Дж. Барнс создает вторичный текст, используя уже опубликованные биографии Д. Шостаковича, но творчески переосмысляя биографические материалы. Сравнительный анализ показал, что одна из особенностей романов – это их структура, отличающаяся наличием нескольких видов взаимодействия текстов, в том числе интертекстуальности и паратекстуальности. Так, в романах присутствуют цитаты, аллюзии на классические русские произведения А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевcкого, Л. Н. Толстого. Отношение текстов к их заглавиям, главам и эпиграфам помогает создать характерный для филологического романа подтекст, для понимания которого необходимы хотя бы минимальные филологические знания. Филологический роман и роман – вымышленная биография синтезируют мемуарный, биографический, эссеистический и художественный дискурсы. Факты биографии и художественный вымысел становятся для писателя равнозначными средствами создания литературного образа. Материалом для автора могут служить дневники или эссе исторической личности, прототипов героев романа. Творческая личность героя, загадку которой писатель предлагает разгадать читателю повествования, позволяет увидеть скрытый смысл текста, включиться в интеллектуальную игру.
Постмодернизм, филологический роман, вымышленная биография, Дж. Барнс, А. Битов, паратекстуальность
Короткий адрес: https://sciup.org/147252286
IDR: 147252286 | УДК: 82-3 | DOI: 10.17072/2073-6681-2025-3-122-132
Текст научной статьи Художественные особенности филологической прозы в романистике А. Битова и Дж. Барнса: к проблеме паратекстуальности
В настоящее время, начиная со второй половины XX в., в литературе отмечается период перехода от устоявшихся жанровых модификаций к новым, ещё не до конца исследованным, но отвечающим запросу времени [Faleev, Filatova, Mayer 2020]. В этот период особое внимание исследователей привлекают так называемые «промежуточные» жанры. К ним можно отнести и филологический роман, который сложился на стыке мемуарного, автобиографического, эссеи-стического и художественного дискурсов. В 2009 г. отечественный ученый А. Генис в своей работе «Частный случай. Филологическая проза» писал: «Сегодня кризис традиционной – романной – литературы проявляет себя чудовищным перепроизводством. Выходит много книг, которые похожи между собой и отличаются лишь действиями» [Генис 2009: 5]. Фокусирование внимания на самом тексте может характеризоваться сформулированной Р. Бартом теорией «смерти автора» [Барт 1989: 132] и идеей Ю. Кристевой об интертекстуальности [Кристева 2004: 527]. Эти подходы определяют природу текста, не учитывая личность автора и его собственный опыт. Французский постструктурализм ставит в центр изучения текст, наличие в нем других текстов и способы их взаимосвязи, создавая таким образом сплошной межтекстуальный мир, в котором уже всё было сказано и написано. В 1982 г. французский литературовед Ж. Женетт предложил классификацию из пяти видов межтекстовых взаимодействий, среди которых интертекстуальность, паратекстуальность, метатекстуальность, гипертекстуальность и архитекстуальность [Женетт 1982: 213]. Особенно Ж. Женетт выделяет понятие паратекстуальности, которое характеризуется как околотекстовое окружение, совокупность компонентов, сопровождающих литературное произведение. Например, это заглавие, посвящение, комментарии, эпиграф, пролог и т. д. С помощью паратекста писатель создает коммуникативную связь с читателем и оказывает на него явное или скрытое воздействие, способствуя формированию его отношения к герою и тексту в целом [Чернигова 2006: 31].
Выход из «замкнутого круга» межтекстовых взаимодействий А. Генис видит в поиске автора, поскольку, по его мнению, если всё уже было придумано и в новых произведениях используются знакомые тексты, для поддержания интереса к чтению необходимо переместить фокус внимания с текста как самостоятельной единицы к стремлению рассматривать произведение с учетом жизненного опыта автора. «Филологический роман – попытка восстановить непостроенный храм. Это – опыт реконструкции, объединяющей автора с его сочинением в ту естественную, органическую и несуществующую целостность, на которую лишь намекает текст» [Генис 2000: 200]. В подтверждение существования данного подхода и в зарубежной литературе можно привести слова Дж. Барнса, который утверждает, что мастерство романиста в современном мире проявляется в умении увидеть и зафиксировать фактуру, заполняющую пространство между разными смысловыми интерпретациями текста, с целью поделиться с читателем своим пониманием [Хохлова 2015: 145]. Для прочтения текста по-новому необходимо прибегнуть к «попятному чтению» (нелинейное чтение, применяющееся при декодировании текста) [Крушинский 2020: 17], которое помогает проследить его развитие с самого начала, с зарождения идеи. Филологический роман позволяет выстроить эту линию понимания путем введения скрытых цитат, вовлечения читателя в интеллектуальную игру [Кири-чук, Ерофеева 2022: 70].
Жанрообразующие признаки филологического романа формировались еще в творчестве Ю. Тынянова, автора трилогии «Кюхля», «Смерть Вазир-Мухтара» и «Пушкин»: «В трилогии представлен синтез художественного и литературоведческого начал, что дает основание отнести все три его произведения к тому жанру филологического романа. В них документальность соседствует с воображением, цитирование литературных источников создает многослойный культурный фон, автор в них выступает в трех ипостасях: как писатель, литературовед и культуролог. Тынянов показал становление творческой личности в неразрывной связи с эпохой. Если помнить, что “поэзия и филология – на глубинном уровне почти одно и то же”, то романы Ю. Тынянова определенно можно считать предтечей филологических романов» [Ладохина 2010: 111].
При прочтении такого романа важно соотнесение содержания текста и мировоззрения автора, учет его жизненного опыта. К формальным характеристикам жанровой разновидности филологического романа можно также отнести следующие признаки: построение сюжета вокруг реализации мотива поиска, разгадки тайны; временную дистанцию, обязательную для осмысления значения творческой личности; многоплановость нарратива; выбор героев, которые в силу их профессиональной деятельности осуществляют этот поиск, а именно филологов, историков, писателей; размышления, идеи которых вводят комплекс философско-этических проблем, рассматриваемых в повествовании [Трофимова 2019: 227].
Система действующих лиц в таком романе также является необычной. Главный герой филологического романа – филолог либо как-то связанный с литературой человек – имеет особый художественный взгляд на мир, который может отличаться от авторского [Новиков 1999]. Термин «филологический» также намекает на особое формирование такого произведения и, соответственно, особый подход к его прочтению. Так, филологический роман можно читать на двух уровнях. Первый уровень – художественный, то есть читатель при знакомстве с текстом не задумывается о встречающихся отсылках, а возможно, и не замечает их, следуя за сюжетом, событиями в жизни главных героев. Второй же уровень рассчитан на более подготовленную аудиторию читателей, имеющих определенные знания в области филологии. Таким образом создается эффект «двойного кодирования», который определяет игровую природу постмодернистского текста и его ироническую стилистику. Писатель кодирует свою идею, не раскрывая ее смысл в прямом обращении к читателю, а прибегая к парафразу или скрытой цитате. О таком подходе к прочтению текстов постмодернизма писал И. П. Ильин, ссылаясь на концепцию голландского ученого Т. Д ′ ана [Ильин 1996: 218].
На протяжении всего XX в. выходит множество произведений, которые можно считать образцами филологического романа. Среди них можно назвать как ранние: «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» В. А. Каверина (1928), «Сумасшедший корабль» О. Д. Форш (1930), так и произведения второй половины XX в.: «Zoo, Письма не о любви, или Третья Элоиза» В. Б. Шкловского (1965), «Пушкинский дом» А. Г. Битова (1971) [Степанова 2005: 75].
Упоминая образцы филологических романов, стоит отметить и зарубежные произведения, активно исследуемые отечественными филологами. В работах российских исследователей принято выделять такие эталонные романы, как «Попугай Флобера» (1984) Дж. Барнса, «Обладать» (1990) А. С. Байетт, «Чаттертон» (2000) П. Акройда. Но следует заметить, что в зарубежной жанровой системе не встречается понятия «филологический роман», а все вышеуказанные произведения относят к субжанру «вымышленная биографиия». Как и филологический роман, вымышленная биография возникла на стыке мемуарного, биографического, эссеистического и художественного дискурсов. Произведения в данном жанре представляют собой совокупность фактических, биографических данных с художественным вымыслом, умело оформленным автором так, что неискушенному читателю невозможно их отделить. Для получения такого ре- зультата автор романа – вымышленной биографии использует дневники или эссе исторически достоверного персонажа, являющегося прототипом главного героя. Так, в самом тексте появляется большое количество интертекстуальных включений, таким образом автор может обращаться к эрудиции читателя, что делает произведение близким к филологическому роману. Однако в вымышленной биографии нет столь четких границ для писателя в выборе профессии или сферы деятельности главного героя. Достаточно того, чтобы он был творческой личностью, а его оригинальная точка зрения на загадку повествования позволяла читателю увидеть скрытый смысл текста.
В начале XXI в. роман – вымышленная биография в английской литературе является весьма актуальным, поскольку создаются новые произведения в этой жанровой форме. Одним из таких романов является «Шум времени» Дж. Барнса, опубликованный в 2016 г. Анализируя данное произведение, можно определить его жанр как «вымышленная биография» или же, согласно отечественной системе, «филологический роман». Роман был переведен на русский язык Е. Петровой, работа которой на сегодняшний день является единственным вариантом перевода, наиболее полно отражающим особенности оригинального текста. Необходимо отметить, что, нисколько не умаляя высокую оценку перевода Е. Петровой, мы прибегаем в анализе текста Дж. Барнса к оригинальному варианту, поэтому включаем сделанный автором статьи перевод-подстрочник.
Главный герой романа - знаменитый русский композитор Дмитрий Шостакович, который обладает особым взглядом на мир, именно ему отведена роль гения, разгадывающего загадку природы творчества. Само произведение наполнено аллюзиями, реминисценциями, явными и скрытыми цитатами, создающими коннотативный смысл текста, тем самым вовлекающими читателя в филологическую игру.
Методы
В исследовании применялись компаративный, биографический и герменевтический методы.
Результаты
В данной статье мы подробно изучили структуру двух произведений с точки зрения сравнения смежных жанров – филологического романа и вымышленной биографии. Это русский роман А. Битова «Пушкинский дом», написанный в 1964–1971 гг., опубликованный в России лишь в 1987 г., и роман английского писателя Дж. Барнса «Шум времени» (“The Noise of Time”) 2016 г. Актуальность такого сравнения определяется тем, что современные авторы выбирают для изображения СССР, Россию XX в. Дж. Барнс предлагает свое понимание того времени, наблюдая за событиями со стороны, как бы извне. В то время как А. Битов находится непосредственно в СССР, изображает происходящее, исходя из опыта собственных наблюдений за исторической реальностью, роман «Шум времени» Дж. Барнса является вторичной прозой, поскольку основывается на опубликованных ранее источниках: эссе, интервью, дневниковых записях и книге, посвященной главному герою романа – Дмитрию Шостаковичу. Дж. Барнс называет эти первичные источники: «Шостаковичу посвящена обширная библиография; музыковеды обычно выделяют два основных источника – подробный, многогранный труд Элизабет Уилсон “Shostakovich: A Life Remembered” (1994; переиздание, с исправлениями, 2006) и книга С. Волкова “Testimony: The Memoirs of Shostakovich as Related to Solomon Volkov” (1979) – воспоминания Шостаковича, записанные с его слов» [Барнс 2003: 208] – и, используя полученные знания, свой опыт и свое видение, создает так называемую вымышленную биографию, в которой реальные факты тесно переплетаются с воображаемым и личной интерпретацией Дж. Барнса. В анализируемых романах одним из ключевых художественных приемов, применяемым с целью максимального погружения читателя в мир главных героев, создания условий для понимания их образа мысли, является использование литературных аллюзий, которые будут представлены в структуре паратекстуальности. Именно они позволили воплотить в романе такую особенность постмодернизма, как интертекстуальный диалог с предшествующими литературными эпохами, усиливающий влияние текста и предполагающий множественность интерпретаций [Киричук, Федорова 2020: 46].
Сравнение именно этих произведений кажется нам актуальным еще и потому, что они написаны современными авторами, которые, создавая портрет эпохи СССР середины XX в., связывают судьбы главных героев с его трагическими событиями. Все три части каждого произведения показывают борьбу героев с внешней средой, в основе которой конфликт с существующим социальным порядком. Оба героя пытаются адаптироваться в условиях, диктуемых «Властью», как определяет сам автор текста характеристику советского государства. Времена правления Сталина повлияли на жизнь общества, в частности, на судьбы советской интеллигенции.
Герой романа А. Битова Лева Одоевцев, филолог, сотрудник Пушкинского дома, не может выстроить взаимопонимание с дедом, бывшим политзаключенным, с отцом и матерью; семья, разрушенная «холодным ветром» истории, становится образом, отсылающим к словам Гамлета о распавшейся связи времен. В романе Дж. Бранса Дмитрий Шостакович, знаменитый русский композитор, вынужден уходить в «тень» и сочинять угодную власти музыку, а «в стол» писать шедевры. Автор показывает, как известный композитор пытается справиться с ситуацией и остаться собой, как меняется система ценностей в стране, и ее невозможно не принять. Затронутая тематика не только позволяет осветить судьбы конкретных людей, но и порождает вопросы универсального значения: влияние власти на искусство, пределы мужества и выносливости человека в быстро меняющемся мире, иногда невыносимые требования выбора между личной неприкосновенностью и совестью.
Сопоставительный анализ произведений в первую очередь выявляет художественные особенности построения текста и выбора названия. Так, в романе А. Битова «Пушкинский дом» автор отсылает к личности А. С. Пушкина, который имеет очевидную значимость для определения смыслового контекста и содержания книги. Автор замечает: «…и русская литература, и Петербург (Ленинград), и Россия, – всё это, так или иначе, Пушкинский дом без его курчавого постояльца» [Битов 2023: 400]. Иными словами, автор предлагает рассматривать проблему его произведения как возможность или невозможность продолжения традиций классической русской литературы.
Роман состоит из Пролога и трех Разделов. Пролог назван цитатой, отсылающей к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Здесь автор описывает разгромленный кабинет в Пушкинском доме, где на полу лежит «Тело». Это Лева Одоевцев с пистолетом в руке, как мы увидим в Эпилоге, всё же оставшийся в живых, но пока без сознания, как с иронией отмечает автор. Ирония Битова многопланова: в Разделе третьем и Эпилоге вставлены паратекстуальные отсылки к четвертой пушкинской повести Белкина «Выстрел» и драме Лермонтова «Маскарад», части Раздела названы так же, как и произведения вышеназванных классиков русской литературы. Трагические истории героев классической русской литературы противоречат развитию событий в истории ссоры Левы и его приятеля Митишатьева, последствия которой читатель видит в Пушкинском доме. Недаром Битов утверждает, что «Тело» на полу кабинета и «смерть» Левы вызывает у него смех. Разыгравшаяся «дуэль» скорее заставляет Одоевцева претендовать на роль трикстера, а не героя. Таким образом и сама «дуэль» получает ироническую, профанированную трактовку.
Рамочная конструкция романа, в которой история нелепой ссоры обрамляет основной сюжет, является также способом объяснить читателю особенности художественного текста: Битов создает, по его же словам, «роман-музей», роман о судьбах русской литературы XIX в. (от «золотого» периода до второй трети и его окончания или третьей трети этого столетия) и стремлении осмыслить ее наследие в XX в. Троичная структура в таком случае необходима и понятна, жанровая форма гибридна и позволяет писателю создавать систему паратекстуальных включений: «... название этого романа – краденое. Это же учреждение, а не название для романа! С табличками отделов: “Медный всадник”, ”Герой нашего времени”, “Отцы и дети”, “Что делать” и т. д. по школьной программе... Экскурсия в роман-музей... Таблички нас ведут, эпиграфы напоминают...» [там же: 80]
Так, Раздел первый романа имеет заглавие «Отцы и дети. Ленинградский роман», что является частичной цитатой названия романа И. С. Тургенева. Данное паратекстуальное включение подсказывает читателю, что предстоит рассказ об отношениях главного героя Левы Одоевцева с его родителями, а также отношениях его отца с Одоевцевым-старшим, и можно сделать вывод, что непонимание поколений становится извечной проблемой, которая не имеет решения, по крайне мере в этом романе. Эпиграфом к Разделу первому служит цитата из финальной сцены романа Тургенева, когда несчастные родители Базарова стоят перед могилой любимого сына.
Раздел второй называется «Герой нашего времени», что отсылает к роману М. Ю. Лермонтова и предлагает соотнести Левино поколение и потерянное поколение Печорина, когда старые идеалы уже были стерты, а новые еще не были найдены. Вместе с автором читатель наблюдает, как Лева адаптируется в современном мире и ищет свой ценностный приоритет. Эта часть посвящена личной жизни Левы, его поискам любви. Эпиграфом к разделу служат слова Печорина, сказанные в состоянии крайнего отчаяния, когда он пытается догнать экипаж с покидающей его, наверное, навсегда, Верой. Эпиграфы этого раздела, названные именами женщин, которые любили Леву или которых любил он, соотносятся с образами в романе Лермонтова: к Любаше он равнодушен, Фаину обожает, но она для него недосягаема, а Альбина любит его, но Лева ее бросает.
Раздел третий назван «Бедный всадник» – это каламбур, представляющий собой контаминацию произведений А. С. Пушкина «Медный всадник» и Ф. М. Достоевского «Бедные люди». В качестве эпиграфов к третьей главе автор выбрал ци- таты из указанных произведений, хотя и в несколько измененном виде. Так, «На звере мраморном верхом. Без шляпы, руки сжав крестом. Сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Он страшился, бедный. Не за себя» [там же: 5]. В оригинале Пушкин после слова «бедный» использует запятую, а не точку, Битов же ставит точку. Этот синтаксический перенос можно трактовать как смысловой: Лева страшится как раз за себя, в отличие от героя поэмы А. С. Пушкина. Эпиграф, цитирующий письмо героя Ф. М. Достоевского Макара Девушкина, также был откорректирован, а именно: А. Битов убрал фразу «Ведь вот как же, так вдруг, именно, непременно последнее», которая явно демонстрирует состояние волнения, в каком герой писал это письмо так, что его слог противоречил им написанному: «А то ведь, ангел небесный мой, это будет последнее письмо: а ведь никак не может так быть, чтобы письмо это было последнее! Да нет же, я буду писать, да и вы-то пишите…а то у меня и слог теперь формируется…». Зная, что письмо действительно оказалось последним, можно предположить, что и А. Битов движется к завершению повествования и разрешению задач [Андрианова 2011: 136–141].
Такое количество внутритекстуального материала помогает Битову общаться с читателем, выражая свое мнение относительно написанного, более детально объяснять свои замыслы, показывать обычно скрытую для читателя филологическую работу над текстом.
Название романа Дж. Барнса «Шум времени» является цитатой названия книги «Шум времени» (1925) О. Э. Мандельштама, который был осужден во время Большого террора и умер во Владивостокском пересыльном лагере в 1938 г. В самом произведении, ассоциирующемся с книгой воспоминаний, О. Э. Мандельштам говорит о гуле времени, который заглушает голоса людей. Это идея красной нитью проходит сквозь роман Дж. Барнса.
В отличие от романа А. Битова, в произведении Дж. Барнса отсутствует большое количество паратекстуальных отсылок, но в эпилоге и прологе заключена основанная мысль автора, которая помогает взглянуть на жизнь композитора так, как видит ее он сам. В конце автор оставил заметку, определив два основных источника биографических данных: книга Элизабет Уилсон «Жизнь Шостаковича, рассказанная современниками» (2006) и книга Соломона Волкова «Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича» (1979). Но при этом констатировал, что многие вещи, описанные в них, не так важны по сравнению с событиями, переживаемыми людьми в тяжелое время сталинских репрессий.
Барнс, «знаток русской литературы и языка, эрудит и аналитик, пишет объемно, роман уходит в глубину: сам текст насыщен ссылками на газетные публикации, аллюзиями на музыкальные произведения, цитатами, которые, переплетаясь воедино, создают атмосферу описываемого времени» [Сидорова 2017: 167]. Основная проблема романа сформулирована Барнсом как своего рода обращение к читателю: “Then there were those who understood a little better, who supported you, and yet at the same time were disappointed in you. Who did not grasp the one simple fact about the Soviet Union: that it was impossible to tell the truth here and live. Who imagined they knew how Power operated and wanted you to fight it, as they believed they would do in your position. In the other words, they wanted your blood” [Barnes 2016: 83]1. Здесь читается отсылка к трагической судьбе Осипа Мандельштама, дающая представление о том, что могло бы ожидать и самого Шостаковича – ранняя смерть, из-за которой его творчество, истинную суть которого понимали немногие, было бы забыто большинством. Шостакович проходит сложный путь от композитора, создающего музыку для широкой публики, к музыканту, сочиняющему свои выстраданные шедевры – поздние струнные квартеты – только для себя, понимающего, что “Music is not like Chinese eggs: it does not improve by being kept underground for years and years” [ibid.: 85]2.
Структура романа маркирует этапы жизненного пути героя. Роман Дж. Барнса изложен в трех частях: “On the Landing” («На лестничной площадке»), “On the plane” («В самолете») и “In the car” («В машине»). Автор изображает композитора во время трех критических моментов его жизни, между которыми пропущены целые десятилетия. Деление именно на три главы можно соотнести с тремя звонками власти, которые изменили судьбу Шостаковича.
Возможна также связь такой структуры с образом тонического трезвучия в музыке, что имеет особый смысл, поскольку главный герой – композитор, а тема музыки является главной в этом произведении. Более того, сам автор говорит о трезвучии напрямую в начале и в конце романа: “So, when the three glasses with their different levels came together in a single chink, he had smiled, and put his head on one side so that the sunlight flashed briefly off his spectacles, and murmered, “A triad” And yet a triad put together by three not very clean vodka glasses and their contents was a sound that rang clear of the noise of time, and would outlive everyone and everything” [ibid.: 136]3.
Тоническое трезвучие возникает как образ рамочной структуры текста: в начале романа Шостакович и его спутник встречают на желез- нодорожной станции инвалида, без ног, передвигающегося на низкой тележке. Идет Великая отечественная война, и человек играет на гармони на станции, пытаясь заработать себе на пропитание. Композитор делит с ним оставшуюся в бутылке водку, и звук сомкнувшихся стаканов порождает у Шостаковича мысль о гармоническом музыкальном аккорде. В начале романа описано само событие, в конце раскрывается содержание вскользь оброненной композитором фразы. Таким образом гармоническое «тоническое трезвучие» заглушает жестокий и неумолимый «шум (гул) времени». Можно также провести аналогию с эпиграфом к произведению, который, по утверждению самого Дж. Барнса, был цитатой из какого-то русского романа. «Кому слушать, кому на ус мотать, а кому горькую пить», – гласит эта цитата, в которой также прослеживается три части. Она похожа на русскую пословицу, однако такой пословицы не существует. Смысл стилизации этого выражения под пословицу как «ложной цитаты» раскрывается в рамочном прологе/эпилоге и обусловливает трехчастное деление романного сюжета.
Всё действие в романе происходит в сознании Шостаковича, и повествование ведется в форме внутреннего монолога, воспроизводящего воспоминания главного героя. В романе особенно выделены так называемые «разговоры с Властью». Дмитрий Шостакович постоянно находится в процессе вынужденной коммуникации с правящей элитой по сюжету романа . В каждой из трех глав мы застаем его в момент размышлений на фоне масштабного кризиса, «метания» его разума представлены короткими отрывками текста, в которых смешаны воспоминания и размышления о настоящем [Колесниченко 2019: 82].
Так, название первой главы – “On the Landing” («На лестничной площадке»), здесь мы застаем героя посреди ночи на лестничной клетке его многоквартирного дома, где он находится в ожидании ареста. Прослеживая ход его мысли, мы знакомимся с композитором, с его внутренними переживаниями, узнаем историю его жизни, семьи и причину этого ожидания на лестничной площадке: “At Arkhangelsk railway station, opening Pravda with chilled fingers, he had found on page three a headline identifying and condemning deviance ''MUDDLE INSTEAD OF MUSIC'' that was enough to take away his life!” [Barnes 2016: 22]4. Название второй главы “On the plane” («В самолете») отсылает нас к событиям того времени, когда композитор летит в Нью-Йорк как член российской делегации. Эта встреча читателя с Шостаковичем состоится после войны, во время пропагандистского турне по США. Визит вызван его вторым «разговором с властью», телефонным звонком самого Сталина, который напоминает аналогичный звонок в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» (роман, который также ассоциируется с «Шумом времени»). Сталин просит композитора совершить поездку в Америку. К тому времени герой уже восстановлен в партийных списках и, не сумев найти причины для отказа от поездки, соглашается против своей воли. В США организуют пресс-конференцию, где он произносит речь, осуждающую его собственное творчество и, в частности, творчество И. Ф. Стравинского, которого он ценит и которым восхищается. Он читает эту речь «монотонным бормотанием», надеясь, что слова будут приняты такими, какие они есть, – неискренними, написанными под диктовку государства. Однако в зале присутствует журналист Николай Набоков, как называет его автор – «провокатор», заставляющий Шостаковича подтвердить публично свое согласие с критикой А. А. Жданова: “Zhdanov, who had persecuted him since 1936, who had banned him and derided him and threatened him, who had compared his music to that of a road drill and a mobile gas chamber” [ibid.: 80]5. Это момент крайнего мучительного унижения для композитора, который не мог говорить открыто.
Третья глава названа “In the car” («В машине»), в ней мы видим пожилого Шостаковича, сидящего на заднем сиденье автомобиля с шофером, ожесточенного постоянными требованиями партии даже сейчас, когда сталинский террор уступил место правлению Никиты Хрущева. Шостакович описывает себя как горбуна «морально, духовно», человека, разбитого телом и духом: “He couldn’t live with himself. It was just a phrase, but an exact one. Under the pressure of Power, the self cracks and splits” [ibid.: 87]6. Мы становимся свидетелями его «последнего, самого губительного разговора с властью», когда очередной государственный служитель Поспелов вынуждает его вступить в партию и занять должность председателя Союза композиторов Российской Федерации. Шостакович лаконично диагностирует свой самый большой недостаток: “So, he had lived long enough to be dismayed by himself” [ibid.: 125]7.
Внутренняя борьба с собой и попытки устоять в диалоге с властью выражены с помощью приема своеобразной анафоры, когда каждая глава романа начинается с одной фразы, означающей, что именно сейчас наступило худшее для композитора время: “All he knew was that this was the worst time of all” [ibid.: 9]8.
Выводы
Филологический роман А. Битова «Пушкинский дом» и роман – вымышленная биография Дж. Барнса «Шум времени» имеют схожие черты как в структуре, так и в общем замысле. Так, в двух произведениях авторы используют деление на три части, каждая из которых соответствует переломному моменту в жизни главных героев.
Три части романа Дж. Барнса – «На лестничной клетке», «В самолете» и «В машине» – изображают три кризисных момента судьбы композитора, в которых Дмитрий Шостакович пытается найти компромисс с властью, создавая свою музыку, но идеальное трезвучие слышит на полустанке, в звуке удара трех стаканов с водкой, преодолевая «шум времени». Заглавие романа «Шум времени» является паратекстуальным включением, связывающим судьбы Шостаковича и Мандельштама: три музыкальных звука, имеющие в словесном выражении трагическую тональность, выражают завершение рефлексии Шостаковича, прошедшей также три этапа: от утверждения (тезиса), отрицания (антитезиса) к синтезу (идеальному звучанию).
Паратекстуальные включения в виде заглавий, эпиграфов и пролога вводят историю героя А. Битова в контекст русской литературы XIX в. Три Раздела романа – «Отцы и дети», «Герой нашего времени» и «Бедный всадник» – это три периода становления Левы Одоевцева и его поиска себя в профессии филолога. Каждая из глав является цитатой произведения, где герои – «лишние» люди: Базаров, Печорин, Девушкин так и не смогли найти своего места в жизни и сами не были поняты, как и Лева. Единственная литературоведческая работа Одоевцева-младшего, статья «Три пророка», так же, как и Разделы романа, подчиняется принципу смысловой триады, она посвящена сравнению стихов трех русских поэтов – А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и Ф. И. Тютчева. В рассуждениях Левы есть историко-литературная логика; он совершает математические подсчеты возраста поэтов, создавших три стихотворения: «Пророк» Пушкина и «Пророк» Лермонтова, «Безумие» Тютчева. Стихи соотносятся с разными художественными задачами, но Одоевцев усматривает в них тенденцию к нисхождению, деструкции традиции от Пушкина к Тютчеву. Недаром в построениях Левы обнаруживается только два уровня логического утверждения: тезис и антитезис. Битов, напротив, в отличие от своего героя, начинает с паратекстуальной вставки заглавия романа Тургенева, потом цитирует заглавие романа Лермонтова и в третьем Разделе соединяет Пушкина и Достоевского, создавая смысловой код иронического «заголовка» – таблички, которая одновременно становится рамкой. Историко-литературная логика нарушена, но выстроена содержательная, глубинная идея. Пушкин принадлежит «золотому веку» русской словесности, а творчество Достоевского замыкает историю литературы XIX в. Принцип триады начинает работать как доказательство от противного: то, что мыслилось как высокое предназначение, мучительный поиск истины в XIX в., в XX в. обретает смысл профанации, трагифарса, выйти из состояния которого можно только путем преодоления разрыва между прошлым и настоящим, обретения вновь пространства Пушкинского дома, восстановив утраченную связь с пушкинской традицией.