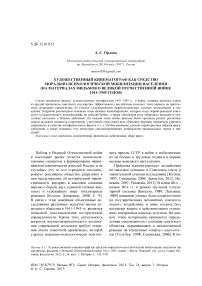Художественный кинематограф как средство морально-психологической мобилизации населения (на материалах фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Автор: Орлова Анна Сергеевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу художественных кинофильмов 1941-1945 гг. о войне, которые являлись одним из орудий пропаганды советского государства. Эффективность воздействия кинолент этого периода на зритель-скую аудиторию определялась не столько художественной выразительностью, сколько заложенными в них идеями. Подробно рассмотрены основные темы «Боевых киносборников», которые стали первой реакцией советского художественного кинематографа на события войны, а также обозначена роль оборонных фильмов в под-готовке населения к боевым действиям. На каждом этапе войны фильмы были призваны решать различные задачи: вызывать ненависть к противнику, уничтожить страх перед ним, объяснить причины поражений, укрепить уверенность в единстве антифашистского фронта и т. д. Особое внимание уделено характеристике образов врага, союзников, а также основных тем: возмездия, самопожертвования, возрождения национальных героев и традиций.
Идеология, кинематограф, пропаганда, мобилизация, образ врага
Короткий адрес: https://sciup.org/147219218
IDR: 147219218 | УДК: 32.019.51
Текст научной статьи Художественный кинематограф как средство морально-психологической мобилизации населения (на материалах фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Победа в Великой Отечественной войне в настоящее время остается основополагающим элементом в формировании национальной идентичности жителей России, и не случайно, что те, кто стремится «атомизи-ровать» российское общество, разрушить в нем представление об исторической преемственности, внедряет в массовое сознание версию о борьбе двух в равной степени жестоких и угрожавших миру тоталитарных режимов [Козлов, Довжинец, 2008. C. 9]. В связи с этим новейшие объективные исследования различных аспектов жизни советского общества в 1941–1945 гг. являются попыткой восстановления исторической справедливости. Кроме того, актуальность вопросов военно-патриотического воспитания современной молодежи требует освоения опыта советской пропаганды, которой удалось морально-психологически подгото- вить народы СССР к войне и мобилизовать их на боевые и трудовые подвиги в первые месяцы немецкого наступления.
Проблема идеологического воздействия на массовое сознание в Советском союзе в значительной степени исследована [Козлов, 1995; Сенявская, 2006; Арнаутов, 2012; Не-вежин, 2007; Ушакова, 2013]. В конце 80-х – начале 90-х гг. в рамках изучения тоталитарной системы [Баталов, 1989; Латышев, 1989] внимание ученых было сосредоточено на государственных механизмах идеологического воздействия, и лишь позднее был поставлен вопрос о действительном «усвоении» внедряемых властью лозунгов. На данном этапе историками признается определенная «автономность» сознания советского общества, выражавшаяся в неоднозначной реакции на спущенные «сверху» идеологемы [Голубев, 2008; Сенявская, 2006]. В по-
Орлова А. С. Художественный кинематограф как средство морально-психологической мобилизации населения (на материалах фильмов о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 1: История. С. 142–149.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 1: История
следнее время появилось несколько диссертационных исследований, авторы которых стремятся выявить пропагандистский подтекст художественных фильмов, что позволяет говорить об актуальности данной тематики 1.
К настоящему моменту опубликовано значительное количество источников, связанных с кинопроизводством в СССР. Большинство из них представляют собой текущую документацию государственных органов управления кинематографом. Сюда относятся докладные записки, стенограммы заседаний художественного совета, открытые письма деятелей искусства, статистические данные, объяснительные записки и прочие документы, часть из которых опубликована в нескольких сборниках [Кремлевский кинотеатр..., 2005; Кино на войне..., 2005; Советская пропаганда..., 2007; Власть и художественная интеллигенция, 1999]. Данный вид источников позволяет увидеть, какие задачи государство ставит перед деятелями кино, на какие недостатки в кинолентах указывает и какие меры применяются для их устранения. Интерес представляют также материалы центральной журнальной и газетной периодики, касающейся как общих вопросов общественно-политической и культурной жизни страны, так и специально посвященной проблемам развития кинематографии («Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Советская культура», «Литературная газета», «Искусство кино», «Киноведческие записки» и т. д.). В периодической печати этого времени опубликованы статьи, посвященные отдельным фильмам, отзывы зрителей, стенограммы творческих конференций, интервью с деятелями кино. Этот вид источников дает представление об атмосфере, царившей в культурной жизни общества, о том, какую реакцию вызвала та или иная кинокартина, в первую очередь у партийных органов и представителей интеллигенции.
Еще одним самостоятельным видом источников являются документы личного происхождения. Это, прежде всего, мемуары создателей кинолент – режиссеров, так как они сообщают наиболее полную информацию о появлении фильмов (начиная с замысла и заканчивая выходом фильма на экран или же его запрещения к показу) (см.: [Иванов, 1973; Александров, 1983; Ромм, 1982] и др.). Режиссеры, являясь теми, кто непосредственно отвечает за свои картины, взаимодействовали с государственными и партийными органами, были участниками художественных советов, творческих конференций, корректировали сценарии или уже готовые кинофильмы. Их мемуары помогают проследить не только процесс создания киноленты, но и его трансформацию (если таковая была) после прохождения цензуры.
В качестве основных источников выступают и сами кинокартины о Великой Отечественной войне, созданные в период с 1941 по 1945 г. По данным, опубликованным НИИ киноискусства, за 1942–1945 гг. было снято более 20 фильмов о Великой Отечественной войне, не считая «Боевых киносборников» [Война на экране, 2006. С. 91–100]. Все они в настоящий момент находятся в архиве Госфильмофонда.
Игровой кинематограф как средство идеологического воздействия имеет ряд особенностей. В частности, создавая на экране «вторую реальность», он обладает возможностью более сильного эмоционального воздействия на зрителей, чем другие произведения искусства. Это хорошо понимали генералы Третьего рейха: на оперативных немецких картах «Мосфильм» и «Ленфильм» были помечены как первоочередные объекты для бомбовых ударов [Мацкевич, 1975. С. 111]. Однако появление кинокартины, как правило, сопряжено с масштабным производством (привлечение сценаристов, режиссеров, композиторов, актеров, подготовка декораций, костюмов и реквизита, обеспечение необходимой съемочной аппаратурой, пленкой и т. д.), поэтому идеологический контроль на каждом этапе создания фильма всегда оставался трудноразрешимой проблемой для советской цензуры.
Киноленты о предстоящей войне начали появляться в СССР уже во второй половине 1930-х гг. Необходимость их выпуска диктовали и возраставшая напряженность внутри страны, связанная с развертыванием массовых политических репрессий, и обострение международной обстановки (приход фашистов к власти в Германии, гражданская война в Испании, нападение Японии на Китай, провал попыток создания системы коллективной безопасности), хотя неминуемость войны с враждебными капиталистическими странами была очевидна для многих жителей Советского Союза и в 20-е гг. [Голубев, 2008. С. 89].
Оборонные фильмы были призваны демонстрировать населению безоговорочное превосходство советской армии над любым противником, укрепляя уверенность в правильности социалистического пути, а также формировать представление о необходимости постоянно сохранять бдительность и оказывать активную помощь войскам в грядущей борьбе с интервентами. Образ врага был довольно условен, малейшая конкретика могла осложнить отношения на международной арене, и потому вызывала недовольство представителей власти [Невежин, 1997. С. 129]. Задача перемещения ореола славы русского оружия на относительно молодые вооруженные силы СССР решалась в данных кинокартинах с помощью исторических параллелей: «Если понадобится, мы им такую Цусиму устроим! Будь то на Балтике, в Черном море или на Тихом океане» (к/ф «Моряки», 1939 г.).
В отношении значения, которое имели оборонные фильмы для мобилизации народов Советского союза, их подготовке к войне с нацистской Германией, среди историков и культурологов нет единой точки зрения. Тезис о «шапкозакидательском» характере советского искусства предвоенного периода, о дезориентации населения страны относительно будущих испытаний, высказанный представителями творческой интеллигенции еще во время ВОВ, имеет своих сторонников и в настоящее время [Сеняв-ская, 2006. С. 76; Зоркая, 2005. С. 191], однако нельзя не учитывать, что высокий уровень психологической готовности к войне, проявленный советскими людьми на фронте и в тылу, представлял собой итог социальной мобилизации, далеко не последнюю роль в которой сыграл и художественный кинематограф.
Приемы, использованные создателями оборонных фильмов при передаче основных элементов образной системы, нашли отра- жение и в «Боевых киносборниках» – первой реакции художественного кинематографа на события начавшейся войны.
Седьмого июля 1941 г. Комитет по делам кинематографии принял решение об организации периодического выпуска «Боевых киносборников» (далее – БК), представлявших собой несколько объединенных киноновелл. Всего на экраны вышло двенадцать сборников, первый выпустили уже в начале августа 1941 г. Преимущество подобной художественной формы заключалось в возможности оперативно реагировать на обстановку на фронте, наряду с «окнами ТАСС» и репортажами писателей-корреспондентов, однако начиная с середины 1942 г. их выпуск прекращается, уступая место полнометражным картинам, хотя среди киноработников дилемма о производстве фильмов «быстро, но актуально» или «долго, но качественно» была сопряжена с жаркими спорами 2. В целом, военные киноленты, вне зависимости от их метража, должны были решать ряд вполне конкретных задач: демонстрировать примеры мужества советских людей, подчеркивать значимость самоотверженной работы «тыла», поддерживать уверенность в победе с помощью опоры на достижения русского оружия в 1242 г., 1812 г. и т. д., а также обострять чувство ненависти по отношению к врагу.
Примечательно, что за весь военный период художественный кинематограф обращался, как правило, к событиям 1941–1942 гг., и только в 1946 г., уже после Победы, был выпущен первый игровой фильм о наступательной операции советских войск – «Великий перелом».
Тема возмездия за родных возникает уже в третьем БК (август 1941 г.), когда герой отправляется на фронт, чтобы отомстить за погибшего брата. Если киноновелла была посвящена событиям на оккупированной территории, то в ней обязательно были показаны жертвы жестокости фашистов. Партизанское движение как стихийный всплеск народного гнева появляется уже в БК № 4 (сентябрь 1941 г.), причем в кинолентах подчеркивается, что действия партизан вызывают у немцев больший ужас, чем столкновение с частями Красной армии. Одна из главных тем, отражения которой требовала власть от всех кинокартин при показе партизанского движения – это руководящая и организующая роль большевистской партии.
Трудность для советской пропаганды заключалась в том, чтобы личное горе в умах людей не преобладало над общенародным, индивидуальное не получало преимущества над коллективным. Цель морально-психологической мобилизации требовала конкретных примеров героизма, поэтому Вестники фронтовой информации и листовки к населению оккупированных областей изобиловали сообщениями об отдельных проявлениях мужества, рассказами о судьбе героев войны. Однако «интимность» переживаний главной героини сценария А. Каплера «Партизаны» вызвала критику руководства: «сверху» поступила телеграмма «Переводим перерождение Прасковьи из плана личного в план государственный» [Ханютин, 1968. С. 49–50]. Тем не менее, несмотря на бдительность Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (далее – УПиА), персонажи-индивидуалисты, оторванные от общества, все же попадали на экраны (к/ф «Нашествие», к/ф «Однажды ночью»).
Курс на возвращение к национальным традициям и ценностям, обозначенный Сталиным еще в предвоенные годы, нашел яркое отражение в художественном кинематографе в период ВОВ, помимо исторических кинолент. Главная ценность, за которую герои отдают свою жизнь, уже не социалистические идеи, а Родина, Отечество («За Родину умирать не страшно» – БК № 10). В БК № 6, выпущенном в конце 1941 г., на вопрос немца: «Веришь ли ты в Бога?», крестьянка отвечает: «А как же! Он наш заступник». Церковный колокол становится набатом, призывающим советских людей к священной мести: «Кровь за кровь!» (к/ф «Секретарь райкома», 1942 г.). Обращение власти к национальному самосознанию русского народа в период войны позволило некоторым современным зарубежным исследователям (в частности, Д. Бранденбергер [2009]) утверждать тезис о распространении шовинистических настроений и их поддержке со стороны партийной номенклатуры, что, на наш взгляд, не соответствует действительности. Напротив, возрождение национальных ценностей, по мысли государственных деятелей, не должно было приводить к росту националистических на- строений, поэтому появление киноповести лауреата Сталинской премии А. Довженко «Украина в огне» вызвало широкий резонанс в партийных кругах и привело к тому, что в январе 1944 г. И. В. Сталин выступил перед членами ЦК и деятелями искусства с докладом «Об антиленинских ошибках и националистических извращениях в киноповести Довженко “Украина в огне’’».
В своем докладе Сталин, в противоречие с утверждаемой им в 1941 г. мысли об Отечественной войне как «всенародной» (Выступление…, 1941. C. 1), говорит, что эта война классовая, и причина коллаборационизма кроется не в советской идеологии, а в пособничестве немецким захватчикам остатков классов, враждебных рабочим и крестьянам [Кино на войне..., 2005. С. 385].
Еще до этого исторического доклада кинематографисты, в 1943 г. впервые по-настоящему затронувшие тему предателей внутри советского лагеря, в качестве таковых изображали представителей старой интеллигенции и кулачества. Образ женщины-сожительницы немецкого офицера также нашел воплощение на киноэкране в 1944 г. в к/ф М. Донского «Радуга», судьба ее после освобождения оккупированных территорий трактуется однозначно, – муж расстреливает ее на месте. Как писал киновед Ю. Ханю-тин, «кино судит своих героев по законам военного времени» [1968. С. 23].
Формированию уверенности в победе способствовало представление о сплоченности антифашистских сил, поэтому тема славянского единства звучит в новеллах о поляках, сербах, румынах (№ 8–10) через открытые призывы: «Поднимайтесь, братья!», «В бой, славяне!», «Создавайте второй фронт в каждой стране!», через отражение их борьбы с оккупантами. С целью доказать, что СССР не в одиночестве противостоит Третьему рейху, что в Европе у него есть сильные союзники, в «Боевые киносборники» включаются хроникальные кадры о британском военном флоте, о защите Лондона от немецкой авиации («Это не только у нас, это во всех странах, где куется победа над гитлеризмом…» – (БК № 6). Позднее упоминаний о действиях союзников в выпущенных на экраны страны фильмах о войне до самой Победы уже не будет. Вероятно, это связано с задержкой открытия «второго фронта», которая стала поводом для появления многочисленных карикатур в 1942–1943 гг., причем скептицизм общества в отношении помощи извне нередко шел дальше выпадов советской печати [Голубев, 2008. С. 200].
Образ врага вызывал особенно пристальное внимание власти и в предвоенный период, когда Сталин и Жданов критиковали две крайности в изображении противника: сильный и умный недруг приводил к тому, что победа советских людей выглядела неоправданной, и, напротив, победа социализма в борьбе с примитивным противником обесценивалась («…была классовая борьба капитализма с социализмом, и вдруг замухрышку разбили…») [Кремлевский кинотеатр, 2005. С. 596].
На первом этапе Великой Отечественной войны немецкая армия изображается при помощи тех же художественных средств, к которым обращались создатели оборонных фильмов. Противник условен, подобен саранче. Но таким образом решалась уже иная задача. Необходимо было «расчеловечить» врага, чтобы уничтожить страх перед ним, перед его убийством. Для этого в фильмах, помимо глупости и жадности, подчеркивается «звероподобие» немецкой армии и командования нацистской Германии («не люди, вы пауки!» – БК № 11). В агитационном плакате этот же прием был выражен в анимализациях, восходивших к мотиву рептилии, который основывался на русской иконографии Зла [Вашик, 2005. С. 223]. Но уже в ноябре 1942 г. на экраны выходит картина И. Пырьева «Секретарь райкома», где полковник нацистской армии Макенау – сильный и смелый враг, поэтому борьба между ним и секретарем райкома Кочетом выглядит как поединок. Позднее тенденция демонстрации мощи гитлеровской армии будет только усиливаться, особенно в первые послевоенные годы, так как величие Победы требовало показа побежденного врага во всей его силе.
Летом 1942 г. на одной из конференций кинематографистов прозвучала знаменитая речь А. Довженко о необходимости «раздвигать рамки дозволенного в искусстве»: «То, что в угоду вкусу, в угоду эстетическим требованиям века считалось запретным, как слишком страшное, слишком гнусное, слишком жестокое, физиологическое, – то просится сегодня на экран». Именно такой образ врага, по мнению режиссера, должен быть создан в кинемато- графе: «массовый фашистский детоубийца, вешатель, растлитель малолетних, убийца раненых, стариков и детей, разрушитель памятников культуры и душитель и убийца целых народов» [Кино на войне…, 2005. С. 5]. Такой образ врага нужен был советскому зрителю, чтобы идти в атаку. Можно предположить, что несоответствие этому требованию в изображении противника было одной из причин запрещения к выпуску на экраны уже готового фильма В. Пудовкина «Убийцы выходят на дорогу» («Школа подлости», ЦОКС, 1942 г.) (по мотивам пьесы Б. Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи»). Он рисовал сцены из жизни фашистской Германии, и немецкое общество в нем выглядело неоднородным, в том числе и по отношению к идеям фашизма. Мысль о том, что у немцев, воюющих на Восточном фронте, есть родные, которые так же любят и переживают за них, могла негативно отразиться на боевом настрое советского народа.
Еще одна попытка взглянуть на немецкое общество «изнутри» была предпринята М. Роммом в фильме «Человек № 217» (1945 г.). Тему этой киноленты выдвинул ЦК комсомола в связи с тем, что в Воронеже, Курске, Ростове и Ворошиловграде при наступлении наших войск было обнаружено несколько десятков юношей и девушек, бежавших из Германии или возвращенных по инвалидности. «Человек № 217», опираясь на факты, повествует о девушке Тане, попавшей к немцам в «домашнее рабство». Режиссер выбрал именно этот вид неволи, дабы «раскрыть физиономию рядового немца в его повседневном быту» [Ромм, 1982]. Картина продемонстрировала жестокость, алчность немцев, которая проявляется даже между членами одной семьи. Однако одна из основных идей фильма о том, что под воздействием несчастий и надругательств доброта и всепрощение превращаются в лютую ненависть к врагу, безобиднейшее из существ (Таня) становится беспощадным народным мстителем – эта мысль, свойственная почти всем картинам первого периода войны, в 1945 г., во время обсуждения на творческой конференции в Доме кино вызвала большие споры среди виднейших кинематографистов страны.
В том же году в кинофильме М. Донского «Непокоренные» впервые появился положительный герой, который служил поли- цаем по заданию партизан. В 1941–1943 гг. показ подобного персонажа был немыслим, ведь и в 1946 г. А. А. Жданов, при «разгроме» 2-й серии «Большой жизни», отмечал неправильность такого подхода.
Важной задачей для советской пропаганды было также «объяснение» причин отступления Красной армии в первый период войны. Неслучайно, что в тематическом плане фильмов на 1943 г. первым был кинофильм «Фронт» по пьесе А. Корнейчука, которая уже с успехом шла на театральной сцене. Проблема военных поражений решалась в нем следующим образом: вся вина за неудачи ложилась на плечи командующего фронтом, который не желал замечать разницы в методах ведения боевых действий в Гражданскую войну и в Великую Отечественную, поэтому, сидя в своем кабинете и не появляясь на фронте, отдавал заведомо неверные приказы.
За 1941–1945 гг. практически не было создано фильмов на «тыловые» темы и приключенческих фильмов для юношества, на необходимость которых указывало УПиА. И хотя уже в 1942 г. от киноработников требовали фильмов о торжестве советской стратегии, изображение военных действий в эти годы носило локальный характер, в силу, прежде всего, технических возможностей. Режиссеры отдавали предпочтение картинам о партизанском движении, где не требовалось большого количества массовых сцен и боевой техники.
Экстремальные условия, в которых действовала советская пропаганда в годы войны, делали любую идеологическую ошибку решающей, поэтому доказательством эффективности художественного кинематографа как средства мобилизации служит победа над нацистской Германией. Фильмы были призваны показывать примеры поведения и объяснять ситуации, вызывавшие немало вопросов у общества, и в военных кинолентах затрагивались проблемы коллаборационизма, плена, выхода из окружения, однако окончание Великой Отечественной войны, вхождение в сферу влияния СССР новых территорий, потребовало трансформации образов немцев, союзников, изменения отношения к войне, к роли «стратегов» и т. д.
Тем не менее было бы ошибочно полагать, что художественный кинематограф является орудием пропаганды исключи- тельно в условиях тоталитарного или авторитарного режимов. Ярким примером обратного служит основанная на капиталистических ценностях продукция кинокомпаний США, практически монополизировавших мировую киноиндустрию.
Список литературы Художественный кинематограф как средство морально-психологической мобилизации населения (на материалах фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
- Александров Г. В. Эпоха и кино. М.: Политиздат, 1983. 339 с.
- Арнаутов Н. Б. Образ «врага народа» в системе советской социальной мобилизации. Новосибирск, 2012. 252 с.
- Баталов Э. Культ личности и общественное сознание // Суровая драма народа: ученые и публицисты о природе сталинизма. Сб. ст. М., 1989. С. 14-27.
- Бранденбергер Д. Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания. 1931-1956. М.: Академ. проект, ДНК, 2009. 416 с.
- Вашик К. Метаморфозы зла: немецко-русские образы врага в плакатной пропаганде 30-50-х гг. // Образ врага / Сост. Л. Гудков. М., 2005. С. 191-230.
- Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) - ВКП(б), ВЧК - ОГПУ - НКВД о культурной политике 1917-1953 гг. / Сост. А. Н. Артизов. М., 1999. 872 с.
- Война на экране / Сост. М. Зак, Ю. Михеева. М.: Материк, 2006. 224 с.
- Выступление по радио Председателя ГКО И. В. Сталина // Правда. 1941. 3 июля. С. 1.
- Голубев А. В. «Если мир обрушится на нашу Республику»: советское общество и внешняя угроза в 1920-1940-е гг. М.: Кучково поле, 2008. 381 с.
- Зоркая Н. М. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005. 544 c.
- Иванов А. Полвека в кино. Л.: Бюро пропаганды сов. киноискусства, 1973. 64 с.
- Кино на войне. Документы и свидетельства / Авт.-сост. В. И. Фомин. М.: Материк, 2005. 944 с.
- Козлов Н. Д. Общественное сознание в годы Великой Отечественной войны. СПб.: ЛОИУУ, 1995. 138 с.
- Козлов Н. Д., Довжинец М. М. Официальное и обыденное сознание в годы Вели кой Отечественной войны. СПб.: Альтер-Эго, 2008. 336 с.
- Кремлевский кинотеатр. 1928-1953: Документы / Сост. К. М. Андерсон, Л. В. Максименков. М.: РОССПЭН, 2005. 1117 с.
- Латышев А. Сталин и кино // Суровая драма народа: ученые и публицисты о природе сталинизма. Сб. ст. М., 1989. С. 489
- Мацкевич О. Работали на победу // Простор. Алма-Ата, 1975. № 6. С. 111-117.
- Невежин В. А. «Если завтра в поход…» Подготовка к войне и идеологическая пропаганда в 1930-40-х гг. М.: Яуза, Эксмо, 2007. 316 с.
- Невежин В. А. Синдром наступательной войны. Советская пропаганда в преддверии «священных боев», 1939-1941 гг. М.: АИРО, 1997. 288 с.
- Ромм М. И. О себе, о людях, о фильмах… // Ромм М. И. Избранные произведения: В 3 т. М.: Искусство. 1982. Т. 2. 480 с. URL: http://www.libros.am/book/read/id/ 2116 31/slug/o-sebe-o-lyudyakh-o-filmakh (дата обращения 07.10.2014).
- Сенявская Е. С. Противники России в войнах XX века: эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М.: РОСС-ПЭН, 2006. 287 с.
- Советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны: «коммуникация убеждения» и мобилизационные механизмы / Авт.-сост. А. Я. Лившин, И. Б. Орлов. М.: РОССПЭН, 2007. 806 с.
- Ушакова С. Н. Идеолого-пропагандистские кампании в практике функционирования сталинского режима: новые подходы и источники. М.: РОССПЭН, 2013. 215 с.
- Ханютин Ю. Предупреждение из прошлого. М.: Искусство, 1968. 285 с.