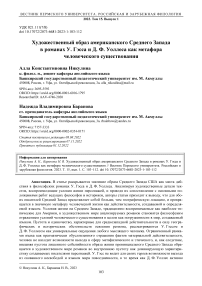Художественный образ американского Среднего Запада в романах У. Гэсса и Д. Ф. Уоллеса как метафора человеческого существования
Автор: Никулина Алла Константиновна, Баранова Надежда Владимировна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 1 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается значение образа Среднего Запада США как места действия в философских романах У. Гэсса и Д. Ф. Уоллеса. Анализируя художественные детали текстов, воспроизводящие условия жизни персонажей, и проводя их сопоставление с основными положениями работ ведущих философов и историков, авторы статьи приходят к выводу, что для обоих писателей Средний Запад представляет собой больше, чем географическую локацию, и превращается в значимую метафору человеческой жизни как действительности, создаваемой и определяемой языком. Условия жизни на Среднем Западе, традиционно воспринимаемые как наиболее типические для Америки, в художественном мире анализируемых романов становятся философским отражением условий человеческого существования в целом как погруженности в мир, создаваемый языком. Пустота и одиночество, характерные для среднезападной действительности в силу географических и исторических обстоятельств освоения региона, рассматриваются У. Гэссом и Д. Ф. Уоллесом как универсальные ощущения любого мыслящего человека. Ограниченный рамками языка как прагматически обусловленного отражения фактов материальной действительности, человек не находит возможности выхода в сферу метафизического и этического, и, как следствие, внешняя пустота лишенного событийности образа жизни провинциального Среднего Запада обращается в художественном мире романов во внутреннюю пустоту как доминирующую характеристику создаваемых писателями персонажей. У. Гэсс не видит для своих героев возможности выхода из скованного несвободой и языком мира повседневности, в то время как Д. Ф. Уоллес активно ищет пути преодоления неблагоприятных обстоятельств через совершение персонажами этического действия как противоположности слову.
Средний запад, философский роман, уильям гэсс, дэвид фостер уоллес, витгенштейн, язык
Короткий адрес: https://sciup.org/147240437
IDR: 147240437 | УДК: 821.111(7/8) | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-1-103-112
Текст научной статьи Художественный образ американского Среднего Запада в романах У. Гэсса и Д. Ф. Уоллеса как метафора человеческого существования
Витгенштейн; язык.
Романы американских писателей Уильяма Гэсса и Дэвида Фостера Уоллеса могут быть с полным правом охарактеризованы как философские. Гэсс как писатель сформировался в 1950– 1960-е гг., в то время как Уоллес – в 1980-е, однако обоих объединяет профессиональный интерес к философии, оба защитили диссертации в данной научной сфере, и это увлечение, несомненно, оказало серьезное влияние на создаваемые ими художественные произведения.
Философским романом мы, вслед за В. А. Луковым, называем литературный жанр, в котором «основными героями <…> становятся не персонажи, а идеи» [Луков 2006: 433]. Автор подобного художественного произведения сознательно базирует свой текст на идеях, заимствованных из сочинений известных философов, используя образы как символы, раскрывающие определенное видение картины мира.
Доминирующие идеи американской философии второй половины XX столетия во многом опирались на традиции, заложенные Л. Витгенштейном. У. Гэсс получил профессиональное философское образование в Корнелльском университете, где, как он утверждал в интервью, «все держалось на Витгенштейне» [Madera 2013]1. Диссертация Д. Ф. Уоллеса была связана с философским рассмотрением проблем свободы и предопределения, и в ней для доказательства своих идей он широко использовал витгенштейновскую методологию.
Как известно, Витгенштейн в ранней работе «Логико-философский трактат» стремился доказать сводимость представлений о действительности к логике языковых построений, что приводило к фактическому упразднению метафизических и этических вопросов как невозможных с точки зрения языкового воплощения: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» [Витгенштейн 1994: 73]. В более поздний период творчества философ отошел от многих прежних излишне категоричных формулировок, сосредоточив внимание на проблеме значения как результата ситуативно обусловленного словоупотребления, но при этом сохранил убежденность в сугубо лингвистической природе человеческого опыта, продолжая настаивать на невозможности осмысленного суждения о чем-либо, выходящим за границы логики языка. Взгляды Витгенштейна оказали существенное влияние на развитие ана- литической философии, сосредоточившей основное внимание на лингвистической природе человеческих представлений о действительности. Мир в представлении философов окончательно стал словом, но не божественным, как утверждала прежняя христианская традиция культуры, а исключительно человеческим, закрепившимся в практическом опыте и не претендующим на отражение чего-либо большего, чем этот практический опыт. Рассуждения о метафизике и «высоких» идеях потеряли смысл как не укладывающиеся в данную научную парадигму.
Практически все художественные произведения и Гэсса, и Уоллеса связаны с размышлением о природе языка и его роли в формировании ми-ровидения современного человека. Погруженность в мир, созданный языком, рассматривается обоими писателями как естественное состояние человека, проявление его истинно человеческой сущности, позволяющее реализовать его главные качества, но одновременно и условие, сковывающее его развитие, ограничивающее свободу.
Философская сторона произведений Гэсса и Уоллеса неоднократно становилась предметом изучения литературоведов. Так, например, философский характер прозы Гэсса отмечают в своих критических работах М. Силверблатт [Silverblatt 1995], Г. Хикс [Hix 2002], Г. Герке [Gerke 2020]. Связь творчества Уоллеса с философией анализируется в статьях тематических сборников «Указывая на реальность: Дэвид Фостер Уоллес и философия» [Gesturing… 2014], «Свобода и личность: эссе о философии Дэвида Фостера Уоллеса» [Freedom… 2015]. При этом, подробно рассматривая особенности общего идейного замысла произведений и образов персонажей обоих писателей, критики практически не уделяют внимания пространственно-временным характеристикам создаваемого художественного мира, хотя, с нашей точки зрения, они оказываются не менее важными для понимания общего концептуального замысла произведений.
В философском романе каждая художественная деталь создаваемого писателем мира призвана помогать раскрытию общего идейного содержания. С этой точки зрения выбор места действия играет важную роль. Географическое место, с которым связана жизнь человека, по утверждению философа Э. Кейси, является важнейшей составляющей человеческой самоиден- тичности [Casey 1997: 338], и авторы рассматриваемых художественных произведений стремятся утвердить эту связь как один из способов более полного и убедительного раскрытия как образов персонажей, так и общей философской идеи в произведении.
При рассмотрении романов Гэсса и Уоллеса невозможно не обратить внимания на тот факт, что практически все они, за единственным исключением «Бесконечной шутки» Уоллеса, имеют своим местом действия Средний Запад США. Данный выбор определенно не является случайным, и в настоящей статье, опираясь на сравнительно-сопоставительный метод и метод интерпретационного анализа, мы намереваемся показать значение данного художественного образа для раскрытия общей философской проблематики исследуемых произведений.
Изначально Средний Запад был символом «американской мечты»: свободы, бесконечных прерий и неисчислимых возможностей для успеха и процветания. Собственная земля, добросовестный труд и деловая хватка считались неотъемлемыми элементами концепции «счастливой жизни», на фоне которой проявились такие типичные для жителей Среднего Запада черты, как демократичность, независимость, уверенность в себе, прагматичность и трудолюбие в сочетании со скромностью и добродетельностью. Во многом благодаря этому социокультурному мифу регион начал восприниматься как квинтэссенция американской национальной идеи, воплощение национальной самоидентификации: «Средний Запад стал символом всей нации, …и рассматривался как самая «американская» часть Америки» [Shortridge 1989: 33]. Однако начиная с 1890-х гг. череда экономических кризисов, изоляционистские настроения фермеров и неизбежный технологический прогресс постепенно привели к разочарованию в идеалах сельскохозяйственной Америки, утрате существенных элементов национальной самоидентичности. Отныне ферма воспринималась скорее как место, где разбиваются мечты, чем как символ надежды и процветания. В национальном сознании этот мир представал однообразной, мрачной и убогой территорией, населенной внешне приятными и простодушными, но малообразованными людьми, а идеализируемая прежде стабильность казалась душной, унылой и беспросветной: по утверждению Дж. Шортриджа, «сердце нации превратилось в захолустье» [Shortridge 1989: 39]. В настоящее время, несмотря на то что этот регион по-прежнему широко известен как «сердце Амери- ки» (Heartland), даже в сознании его жителей он нередко определяется как «абстрактное нигде» [Wescott 1928: 39].
Биографии У. Гэсса и Д. Ф. Уоллеса тесно связаны со Средним Западом, поскольку там прошло детство обоих: у первого – в Огайо, у второго – в Иллинойсе. Однако выбор ими данного региона как места действия художественных произведений определяется далеко не только биографическими фактами. «Я не среднезападный писатель, – заявлял Гэсс в интервью. – Все свои источники я всегда выбирал намеренно» [LeClair 1977]. Гэсс помещает своих персонажей на Средний Запад не потому, что сам живет там, а потому, что это важный смысловой компонент его произведений: «Меня всегда притягивал Средний Запад, – говорит он. – Средний Запад – это одно непрекращающееся бедствие. Одно бедствие за другим» [Silverblatt 1998]. Сходную мысль озвучивает и главный персонаж его романа «Тоннель», описывая свой город детства в штате Айова, переживающий постоянные пыльные бури, разрушительные торнадо, нашествия саранчи: «Год за годом лето врывалось к нам в апреле порывом ветра как апокалиптическое бедствие» [Gass 1995: 98]. Жизнь воспринимается человеком как вечная борьба с внешними обстоятельствами, но эта борьба лишена какого бы то ни было ореола героики. Конечная бессмысленность и бесцельность борьбы подчеркиваются авторским выбором намеренно «приземленных» образов пыли, саранчи. И бури, и насекомые неминуемо возвращаются год за годом; в центре торнадо зияет «дыра, не ведущая никуда» [ibid.: 119] как наглядное олицетворение пустоты действительности, несмотря на бурлящую вокруг энергию. Писатель изначально создает образ человеческой жизни как непрекра-щающегося «бедствия», повседневного противостояния с окружающим миром, которое, однако, не возвышает, не приносит морального удовлетворения, а только выматывает ощущением своей абсолютной неэффективности. В этом контексте ироническое звучание приобретает название описываемого персонажем «Тоннеля» городка – Гранд. Изначальное интуитивное стремление человека к большому, духовно возвышенному не находит реализации в повседневных условиях его существования, и в результате окончательно пропадает, как случается в жизни Колера, повествователя в романе, еще в юности «променявшего поэзию на историю» [ibid.: 76], т. е. возвышенно-романтическое на материально-конкретное.
Образ Среднего Запада, создаваемый У. Гэссом во всех трех написанных им романах – «Удача Оменсеттера» (“Omensetter’s Luck”, 1966), «Тоннель» (“The Tunnel”, 1995) и «Ми, до, си» (“Middle C”, 2013) – и Д. Ф. Уоллесом в романах «Швабра системы» (“The Broom of the System”, 1987) и «Бледный король» (“The Pale King”, 2011), становится символическим воплощением общей человеческой судьбы: погруженный в язык как прагматически обусловленное отражение «фактов» материальной действительности, человек отчаянно пытается совершить движение к «этическому», выходящему за границы повседневного материального опыта, но его стремление чаще всего оказывается обречено на неудачу экзистенциальной невозможностью подобного прорыва.
Уже в первом романе «Удача Оменсеттера» Гэсс, именуя маленький провинциальный городок в штате Огайо, где разворачивается основное действие, «столицей человеческой природы» [Gass 1967: 235], придает происходящему необходимую для философского романа универсальность. С одной стороны, этот маленький городок для его обитателей, таких как бывший почтальон Израбестис Тотт – первый в череде повествователей в произведении, предстает как единственное место, обладающее несомненной подлинностью и жизнью. Любящий красочные истории о далеких странах и пытающийся сам их сочинять в часы скуки, Тотт ясно осознает «неправдоподобие деталей, расплывчатость картинок, фальшивость всех этих подразумевающихся недомолвок, потому что он ничего не знал, ничего не изучал, нигде не бывал» [ibid.: 18]. Однако как только он в мыслях возвращается на родную почву, образы наполняются настоящей жизнью: они «больше не сбивались на клише, но в каждом он точно чувствовал атмосферу, и что за птицы там поют, и как высоко стоит солнце, и как выглядят облака, и что чувствуют и он сам, и окружающие его – все детали обстановки» [ibid.: 18]. Реальность Гилеана – воображаемого городка, в котором происходит действие романа, – лишена ярких красок и экзотики, но в ней, с точки зрения Тотта, есть своя красота и поэзия, как в доме миссиc Пимбер, с описания которого начинается роман: «крепком и основательном, прекрасном во всех отношениях» [ibid.: 10]. С другой стороны, пришелец со стороны, которым оказывается получивший здесь приход священник Джетро Фербер, не обнаруживает в городе ничего кроме унылого однообразия пейзажа, интеллектуальной и эмоциональной ограниченности местных жителей, вялости и монотон- ности повседневной рутины: «О, жить здесь будет ужасно – это просто окраина цивилизации, пустыня» [ibid.: 75]. Таков же среднезападный город детства Колера в романе «Тоннель», в котором жизнь течет неторопливо и бессобытийно и своеобразным символом которого выступает запомнившийся рассказчику ручей: «Ручей тек медленно и казался застывшим стеклом, как сам Гранд, и только если опустить в него руку или бросить лист на воду, можно было понять, что вода движется <…> Даже редкое появление водяного жука не могло изменить ощущения, что дно заключено в воду, как в тюрьму» [Gass 1995: 304]. Унылое однообразие среднезападной действительности угнетает героиню романа «Ми, до, си» Мириам, чьи детство и юность прошли в Австрии: «Мой родной город был городом; там были горы, река, вкусный хлеб; здешние города – просто курятники; здешние города – как медленные заболоченные ручьи; у них нет своего лица» [Gass 2013: 56].
Сходные образы доминируют и в произведениях Уоллеса. В романе «Бледный король» образ классной комнаты, возникающий в воспоминаниях одного из рассказчиков – выходца со Среднего Запада, – становится своеобразным символом региона как воплощения серого однообразия будничной действительности, методистской догматики и несвободы: «ряды пустых лиц, и свет без полутеней, и спутанная колючая проволока за окнами» [Wallace 2011: 119]. В романе «Швабра системы» грандиозным проектом администрации штата Огайо становится создание искусственного природного парка – «Великой пустыни Огайо» (Great Ohio Desert – G.O.D.), которая видится создателям уникальным местом, где посетители смогут оказаться наедине с собой и обрести духовное очищение. Глубинная ирония, изначально ощущаемая читателями в этом образе, заключается в столкновении противоречащих друг другу образов божественного откровения ( God – англ. «бог») и угнетающей пустоты ландшафта.
У большинства персонажей как Гэсса, так и Уоллеса Средний Запад вызывает прежде всего непреодолимое ощущение пустоты – географической, исторической, интеллектуальной, эмоциональной. Доминирующее ощущение, испытываемое практически всеми персонажами анализируемых произведений, – чувство глубокого одиночества. Типичная для американского национального характера тяга к обособленности и независимости принимает здесь форму абсолютной оторванности от каких бы то ни было корней: «Я более чем удален от тех дней, – говорит глав- ный герой в романе «Тоннель», размышляя о своем детстве. – Я есть сама удаленность» [Gass 1995: 123]. «Помню ли я своих родителей? Я отказываюсь их помнить. Свою семью? Нет, точно нет» [ibid.: 16]. «Я не принадлежу Америке, – утверждает Джозеф Скиццен в романе «Ми, до, си». – У меня нет номера» [Gass 2013: 628]. Персонажи пытаются убедить себя, что избранное ими одиночество – лучшая позиция в жизни, обеспечивающая их самостоятельность и независимость, хотя в глубине души при этом ощущают глубокий дискомфорт: «Мне очень грустно, потому что я не могу ни с кем поделиться ни строчкой своей настоящей жизни, поговорить с кем-нибудь по душам», – признается Колер в «Тоннеле» [Gass 1995: 498]. В «Швабре системы» Уоллеса несколько персонажей отчаянно пытаются искать решающей встречи друг с другом в пустыне, хотя, по справедливому замечанию одного из них, «никто еще никогда не находил другого в подобном месте» [Wallace 2004: 221].
Осознание большинством персонажей собственного одиночества в сочетании с изображением бесцельной и бессобытийной жизни провинциального Среднего Запада придают художественным произведениям обоих авторов экзистенциалистскую окраску, усиливающуюся аллюзиями, наподобие «страха и трепета», испытываемого Колером в «Тоннеле», совершенно в духе С. Кьеркегора [Gass 1995: 93], или знаковым нежеланием Фогла, персонажа «Бледного короля» Уоллеса, читать и анализировать в колледже повесть А. Камю «Падение» [Wallace 2011: 86]. Экзистенциалистская проблематика накладывается в романах на характерную для аналитической философии трактовку действительности как совокупности объективных фактов, лишенной какого-либо метафизического смысла. В этой ситуации человек, заброшенный в материальную пустоту объективно существующего мира, пытается искать спасения с помощью практически единственного философского инструмента, которым располагает: языка и речи. Персонажи романов пытаются заполнить пустоту существования словами, полагая, вслед за поздним Витгенштейном, что «значение слова и есть то употребление, каким мы его наделяем» [Витгенштейн 1994: 134], и стремясь таким образом придать форму и смысл действительности: персонажи «Швабры системы» и «Удачи Омен-сеттера» сочиняют вымышленные истории, Колер в «Тоннеле» пишет книгу, Скиццен в «Ми, до, си» идет дальше всех, сочиняя и постоянно корректируя собственную биографию. Потребность во внутреннем смысле – естественная потребность человека, поэтому во всех случаях ощутимо стремление персонажей с помощью словесных построений придать определенную форму мирозданию: даже в случае, если образ получится безрадостным и свидетельствующим об отсутствии «плана» во вселенной, как интуитивно чувствуют Джетро Фербер в «Удаче Оменсеттера», Колер в «Тоннеле», Скиццен в «Ми, до, си», это создаст желанную, законченную в своем внутреннем построении систему в отличие от абсолютного хаоса пустоты. Но главная проблема, с которой сталкиваются все персонажи, – это невозможность создать зримую форму в текучести словесного потока. Проблема мира словесного, мира «языковых игр», заключается в том, что в нем нет оси; жонглирование словами выливается в жонглирование идеями, убеждениями. В результате, характеры персонажей Гэсса и Уоллеса выглядят как не цельные, не последовательные, эти люди легко отдаются своему разнонаправленному речевому потоку и оттого остаются внутренне пустыми. Они текучи, изменчивы, у них нет твердых характеристик. Слова, за которыми они пытаются следовать, не складываются в текст как завершенное и логически выстроенное произведение: яркие примеры тому – несостоявшаяся проповедь Фербера в «Удаче Оменсеттера» или так и не законченная книга Колера в «Тоннеле» Гэсса. Скиццен в романе «Ми, до, си», чья фамилия переводится с немецкого как «скетчи, наброски», в процессе словесного варьирования истории своей жизни приходит к полной утрате личности как таковой, что иронически подмечает его собеседник: «Так получается вас, вроде как, много» [Gass 2013: 525].
Отсутствие внутренней цельности и внешних ориентиров закономерно приводит к утрате персонажами романов моральных критериев. Так, священник Джетро Фербер в воображаемой речи, обращенной к прихожанам, стремится доказать, что лучшее творение Бога – дьявол [Gass 1967: 75], а историк Колер в книге «Вина и невинность в гитлеровской Германии» приходит к оправданию преступлений нацизма. «Разве вина и невинность, о которых я говорю, – это не просто последовательность бумажных страниц?» [Gass 1995: 31] – риторически вопрошает Колер, стремясь оправдать свою релятивистскую позицию тем, что морально-этические суждения не относятся к фактам, поддающимся объективному языковому воплощению, а потому оказываются бессмысленны в любой форме.
Одной из причин духовно-нравственного кризиса, переживаемого населением современного Среднего Запада США, Д. Ауэрбах считает утрату прежних христианских ценностей и неспособность заменить их какими-либо другими: «…после того, как вопрос религии был снят с повестки дня, то, что осталось, выглядит совершенно бездуховно» [Auerbach 2020]. Внутренняя потерянность персонажей анализируемых романов – жителей Среднего Запада – призвана отобразить состояние современного представителя западной цивилизации, интеллектуально и технически продвинувшегося далеко вперед, но в морально-нравственном смысле оказавшегося в глубоком кризисе. «Так оно и есть: мы все пребываем в отчаянии», – обобщает Фербер типическую ситуацию в «Удаче Оменсеттера» [Gass 1967: 214]. Персонажи Гэсса, такие как Генри Пимбер в романе «Удача Оменсеттера», мечтают о возрождении духовности в прежнем христианском смысле, но не обнаруживают для этого основы в сути мироустройства. Другие жаждут яркой, наполненной событиями жизни, хотят быть значимыми, воображая себя ницшеанскими борцами с обыденными устоями, но, в итоге, остаются не более чем карикатурами, пародиями на них. «Выбирайся из этого безжизненного городка в Индиане и полетим в Германию, где убийство стало высоким искусством», – мысленно восклицает Колер в «Тоннеле» [Gass 1995: 91]. Он пытается убедить себя, что с радостью продал бы душу дьяволу за полнокровную, насыщенную событиями жизнь, даже если эта жизнь противоречила бы общепринятым нормам морали: «Но я хочу такого предложения. Я хочу быть проклятым. Я жажду бездны» [ibid.: 183]. Однако в другие моменты он не может не признать, что вся его бравада – не более чем лицемерие труса перед самим собой: «Вот вы чего жаждете? Ничего. И я тоже» [ibid.: 183]. Именно в этом и заключается суть изображаемых Гэссом персонажей: они не являются состоявшимися личностями, не обладают твердым характером; у них, как у Джозефа Скиццена в романе «Ми, до, си», нет «ни озабоченности происходящим, ни убеждений» [Gass 2013: 273]. «Это произведение о человеке, который есть “никто”», – характеризовал роман «Ми, до, си» сам автор [Madera 2013], и это утверждение можно с полным правом применить и к другим протагонистам его произведений.
Мир бессобытийного повседневного существования, ограниченного рамками собственного микрокосма, может быть комфортен для примитивного человека с простыми животными по- требностями, не привыкшего смотреть вокруг и размышлять, – именно таким Гэсс представляет, например, Брэкетта Оменсеттера в начале романа «Удача Оменсеттера». Но как только человек по каким-либо причинам выпадает из своего счастливого онтологического неведения, как, в частности, происходит с Оменсеттером во время болезни сына, ужас бытия наваливается на него, лишая прежней жизнерадостности и приводя к отчаянию как новой форме мироощущения. Подобное психологическое состояние в своей основе, разумеется, не обусловлено географически и раскрывает суть человеческой ситуации в целом, что и стремятся продемонстрировать авторы философских романов, однако не случайно при этом они выбирают в качестве фона для развертывания действия именно типические условия жизни на Среднем Западе, где человек изначально обнаруживает себя лицом к лицу с физически и психологически ощутимой пустотой действительности. Так, знаковой деталью в романе Уоллеса «Швабра системы» представляется тот факт, что почти все пациенты психбольницы, в которой проходит лечение бабушка главной героини, оказываются выходцами со Среднего Запада – «места, которое есть и которого нет», представляющего собой в масштабе страны «физическое сердце и культурную периферию» [Wallace 2004: 142] и, как следствие, населенного людьми, многие из которых оказываются в пограничном психическом состоянии из-за неспособности в подобных обстоятельствах обрести себя, обнаружить основу для собственного существования.
Размышляя о своей судьбе и прожитой жизни, практически все основные персонажи романов испытывают разочарование, понимают, что что-то действительно важное в человеческом отношении так и не было ими обретено. «А я практически никогда и не жил», – признается себе Генри Пимбер перед смертью в романе Гэсса «Удача Оменсеттера» [Gass 1967: 60]. Колер в «Тоннеле» берется за написание книги, в первую очередь надеясь хотя бы на ее страницах найти себя: «как будто я живу (или жил)» [Gass 1995: 6]. Горькое осознание своей незначительности, посредственности, неспособности обрести собственное лицо преследует многих персонажей: «Я <…> делал, что требовалось; я <…> старался помочь; я <…> никогда не был собой», – констатирует Колер [ibid.: 549]. Сознательное «предпочтение посредственности» [Gass 2013: 190] определяет все действия Скиццена в романе «Ми, до, си». Герои «Швабры системы» Уоллеса обеспокоены тем, что они не более чем персонажи в чужих историях, не обладающие собственной волей и судьбой [Wallace 2004: 120]. В итоге, именно рутинное выполнение жизненных функций без цели и смысла расценивается авторами как подлинная трагедия человеческого существования: «Бездна – это ничтожество, в котором мы пребываем, когда мы просто заполняем собой пространство, мы просто существуем…» [Gass 1995: 182].
Американские литературные критики, писавшие о романах У. Гэсса и Д. Ф. Уоллеса, не могли не обратить внимания на важность используемых в них образов Среднего Запада. «Редкий талант» Уоллеса к описанию жизни Среднего Запада отмечает Дж. Баскин [Gesturing… 2014: 141]. Д. Ауэрбах характеризует роман Гэсса «Тоннель» как произведение «об ограниченности <…> американской культуры, в первую очередь – среднезападной культуры» [Auerbach 2020]. Однако нам в выборе данного художественного образа видится более широкое философское обобщение. Оба писателя не просто представляют типическую ситуацию жизни на Среднем Западе; для них это прежде всего модель человеческого существования в целом. Пустота и одиночество, характерные для жителя Среднего Запада в силу географических и исторических условий, рассматриваются Гэссом и Уоллесом как ощущение, характерное для современного человека, в стремлении к рационализации действительности утратившего связь с другими людьми, миром идей, Богом.
Финалы романов Гэсса довольно пессимистичны. Выйти из скованного несвободой и языком физического мира фактов оказывается невозможно. С этим открытием можно смириться, не пытаясь искать смысл в происходящем, как поступают Фербер в «Удаче Оменсеттера» или Скиццен в «Ми, до, си»; или продолжать мучительно размышлять над сложившейся ситуацией, как Колер в «Тоннеле», склоняясь при этом к признанию ее безысходности: «Возможно, правильной жизни не существует» [Gass 1995: 144].
Уоллес, в отличие от Гэсса, не скрывает, что при создании своих произведений ставит перед собой, в том числе, и моральные задачи [Conversations… 2012: 18]. Показывая отчаяние, преследующее современного человека, он в то же время ищет пути его преодоления, способы заполнить пустоту, оставшуюся после ухода традиционной религии, иными способами духовной поддержки. Осознавая ситуацию несвободы, в которую современный человек оказывается помещен жесткими требованиями языка, Уоллес, тем не менее, стремится смягчить ее утверждением, что «по крайней мере, мы все находимся в этой ситуации вместе» [ibid.: 44]. Невозможность кардинально изменить внешний мир приводит к поиску выхода на пути изменения внутреннего отношения к нему, обретения утешения в поддержке другого человека. Финал романа «Швабра системы» содержит действенную попытку главной героини Ленор освободиться от тирании окружения через разрыв отношений с семьей и прежними друзьями и отъезд с возлюбленным из Огайо в Техас – географически и культурно представляющий собой совершенно иной регион США – хотя, как мы показали в более ранней статье, абсолютным данное освобождение стать не может [Никулина 2021]. В романе «Бледный король» проблема внутреннего преодоления решается в духе философии Кьеркегора, наиболее наглядно раскрывая этические взгляды самого Уоллеса, названного Л. Константину «человеком веры» [Konstantinou 2012: 85]. Сознательный выбор персонажами «скучной» и незаметной профессии бухгалтера в далекой среднезападной провинции обнаруживает черты, сходные с религиозным обращением, и представляет собой пример молчаливого этического действия в мире, в котором слова оказываются бессильны создать новую духовность.
Таким образом, художественный образ жизни на Среднем Западе в романах У. Гэсса и Д. Ф. Уоллеса представляет собой своеобразную метафору жизни в языке, как видят ее оба писателя. Средний Запад в культуре и литературе традиционно выступает наиболее типическим изображением Америки, воплощением национальных ценностей и образа жизни – так же и язык, согласно философским воззрениям, восходящим к работам Витгенштейна и классикам англо-американской аналитической традиции, представляет собой единственно возможное и наиболее естественное условие существования человека, формирования его представления о мире и поведения. Одновременно Средний Запад изображается в американской литературе как монотонное, бескрайнее пространство схожих друг с другом ферм и небольших городков, затягивающее человека в омут повседневности, поглощающее рутинной борьбой с мелкими жизненными проблемами, за которой теряется большой смысл. Средний Запад в изображении Гэсса и Уоллеса – это унылый однообразный пейзаж, провинциальный образ жизни, скука и бессобытийность ежедневного существования, ощущение одиночества и заброшенности. Такую же ограничивающую и подавляющую функцию выполняет в человеческой жизни язык: своей четко организованной грамматикой, однозначной референтностью, ограниченным набором средств, абсолютной предсказуемостью правил осмысленного употребления он устанавливает жесткие рамки для человеческого поведения, определяет образ мысли и, как следствие, образ жизни, лишает возможности выхода в сферу духовного, витгенштейновского «этического», поскольку о последнем «невозможно говорить». Именно поэтому художественный образ Среднего Запада представляет собой один из наиболее значимых символов для обоих создателей философского романа.
Список литературы Художественный образ американского Среднего Запада в романах У. Гэсса и Д. Ф. Уоллеса как метафора человеческого существования
- Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I / пер. с нем. М. С. Козловой и Ю. А. Асеева. М.: Гнозис, 1994. 612 с.
- Луков В. А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. М.: Академия, 2006. 512 с.
- Никулина А. К. Диалог аналитической и континентальной философии в романе Д. Ф. Уоллеса «Швабра системы» // Известия Смоленского государственного университета. 2021. № 3 (55). С. 40-52. doi 10.35785/2072-9464-2021-55-3-40-52
- Auerbach D. Glass and Dirt: 'The Tunnel' in Twelve Antitheses // The Tunnel at 25: An Online Symposium. 2020. https://thetunnelat25.com/glass-and-dirt-the-tunnel-in-twelve-antitheses/ (дата обращения: 05.06.2022).
- Casey E. S. The Fate of Place: A Philosophical History. Berkeley: University of California Press, 1997. 488 p.
- Conversations with David Foster Wallace / ed. by S. J. Burn. Jackson: University Press of Mississippi, 2012. 181 p.
- Freedom and Self: Essays on the Philosophy of David Foster Wallace / ed. by S. M. Cahn and M. Eckert. New York: Columbia University Press, 2015.179 p.
- Gass W. H. Middle C. Waterville, Maine: Thorn-dike Press, 2013. 701 p.
- Gass W. H. Omensetter's Luck. New York: New American Library, 1967. 237 p.
- Gass W. H. The Tunnel. New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1995. 651 p.
- Gerke G. The First Movements in 'The Tunnel' // The Tunnel at 25: An Online Symposium. 2020. https://thetunnelat25.com/the-first-movements-in-the-tunnel (дата обращения 01.06.2022).
- Gesturing toward reality: David Foster Wallace and Philosophy / ed. by R. K. Bolger and S. Korb. New York: Bloomsbury, 2014. 284 p.
- Hix H. L. Understanding William H. Gass. Columbia: University of South Carolina Press, 2002. 189 p.
- Konstantinou L. No Bull: David Foster Wallace and Postironic Belief // The Legacy of David Foster Wallace. Ed. S. Cohen and L. Konstantinou. Iowa City: University of Iowa Press, 2012. P. 83-112.
- LeClair T. The Art of Fiction // The Paris Review. 1977. Issue 70. https://www.theparis-review.org/interviews/3576/the-art-of-fiction-no-65-william-gass (дата обращения: 03.06.2022).
- Madera J. Sentenced to Depth // Rain Taxi. Spring 2013. URL: https://medium.com/the-wil-liam-h-gass-interviews/william-h-gass-interviewed-by-john-madera-2012-4b48ee6fd0c4#.5mcgj otdc (дата обращения 01.06.2022).
- Shortridge J. R. The Middle West: Its Meaning in American Culture. Lawrence: University Press of Kansas, 1989. 201 p.
- Silverblatt M. A Small Apartment in Hell // Los Angeles Times. March 19, 1995. https://www.la-times. com/archives/la-xpm-1995-03-19-bk-44339-story.html (дата обращения: 05.06.2022).
- Silverblatt M. Interview with William H. Gass / Transcript of the broadcast "Lannan Readings & Conversations: William Gass", 1998. https://me-dium.com/the-william-h-gass-interviews/william-h-gass-interview-with-michael-silverbatt-1998-ab8cd-be33563 (дата обращения: 05.06.2022).
- Wallace D. F. The Broom of the System. New York: Penguin Books, 2004. 467 p.
- Wallace D. F. The Pale King. An Unfinished Novel. New York: Little, Brown and Company, 2011. 560 p. URL: https://royallib.com/read/Wal-lace_David/the_pale_king_an_unfinished_novel.html (дата обращения: 24.03.2022).
- Wescott G. Good-Bye Wisconsin. New York: Harper & Brothers Publishers, 1928. 362 p.