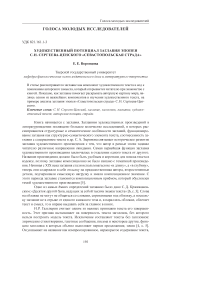Художественный потенциал заглавия эпопеи С. Н. Сергеева-Ценского "Севастопольская страда"
Автор: Воронцова Евгения Евгеньевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается заглавие как компонент художественного текста и код к пониманию авторского замысла, который открывается читателю при знакомстве с книгой. Показано, как заглавие помогает раскрывать авторскую картину мира, являясь одним из важнейших компонентов в изучении художественного текста, на примере анализа заглавия эпопеи «Севастопольская страда» С. Н. Сергеева-Ценского.
С. н. сергеев-ценский, заглавие, заголовок, название, художе ственный текст, авторская позиция, страда
Короткий адрес: https://sciup.org/146281489
IDR: 146281489 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи Художественный потенциал заглавия эпопеи С. Н. Сергеева-Ценского "Севастопольская страда"
Книга начинается с заглавия. Заглавиям художественных произведений в литературоведении посвящено большое количество исследований, в которых рассматриваются структурные и семантические особенности заглавий, функционирование заглавия как структурно-семантического элемента текста, соотнесенность заглавия с содержанием текста и др. С. А. Зырянова связывает историческое развитие заглавия художественного произведения с тем, что автор в разные эпохи задавал читателю различные направления ожидания. Самая первейшая функция заглавия художественного произведения заключалась в отделении одного текста от другого. Название произведения должно было быть удобным и коротким для поиска текста в кодексе, поэтому заглавие композиционно не было связано с тематикой произведения. Начиная с XIX века заглавия стали использоваться не «в длину», а «в глубину», теперь они содержали в себе отсылку на предшественника автора, второстепенные детали, подчеркивали смысловую нагрузку и имели композиционное значение. С этого периода заглавие становится композиционным приёмом, который обусловлен темой художественного произведения [5].
Одно из самых ёмких определений заглавию было дано С. Д. Кржижановским: «Десяток-другой букв, ведущих за собой тысячи знаков текста» [6, с. 3]. Слова на обложке не могут не общаться со словами, спрятанными под обложку, а поскольку заглавие не в отрыве от единого книжного тела и, в параллель обложке, облегает текст и смысл, то и вправе выдавать себя за главное в книге.
И. Р. Гальперин считает одним из важных признаков текста его завершенность. Этот признак выталкивает на поверхность текста заголовок, без которого нельзя построить модель текста. Исключение составляют тексты без заголовков: лирические стихотворения, газетные сообщения, письма и некоторые другие, функцию заголовка в которых обычно выполняет первое предложение, зачин [4, с. 5]. Он указывает на название как компрессированное, нераскрытое содержание текста, которое своеобразно сочетает в себе две функции: функцию номинации (эксплицитно) и функцию предикации (имплицитно) [Там же, с. 133].
На выбор заглавия художественного произведения влияют в первую очередь содержание и авторская воля. Заглавие должно быть связано с темой произведения либо с его замыслом, идеей. К второстепенным, но не менее важным факторам, оказывающим влияние на выбор заглавия, относятся время и место создания, особенности литературного направления, стиля, круга, школы, а также роды, виды и жанры литературы (проза, поэзия, драма). Не последнюю роль при формулировании заголовка играет мода. Наконец, в выборе заголовка проявляется индивидуальность автора, его личные симпатии и пристрастия.
И. Р. Гальперин предлагает классифицировать заглавия по форме, содержащейся в нём содержательно-концептуальной информации (СКИ) или содержатель-но-фактуальной информации (СФИ), например: название-символ, название-тезис, название-цитата, название-сообщение, название-намек, название-повествование. Вне зависимости от типа название обладает способностью «ограничивать текст и наделять его завершенностью». Это его ведущее свойство. Отсюда определение названия (заголовка): это имплицитная максимально сжатая СКИ, которая, как всё сжатое, стремится к развертыванию, распрямлению [4, с. 133].
Н. А. Веселова отмечает диалектические отношения текста и заголовка, при этом они оба являются одновременно и двумя самостоятельными текстами, и элементами одной структуры. В иных случаях это даёт заглавию право не только представлять текст, но и замещать его. Одновременно такой совокупностью свойств не обладает ни один другой элемент текстовой структуры [2].
-
С. Н. Сергеев-Ценский писал о заглавии произведения: «О названии той или иной художественной вещи можно было бы сказать особо много, здесь же я скажу только, что название должно представлять собою суть произведения, то, о чем будет идти речь, однако дурным тоном в литературе является брать чужие названия, причем всем известные» [12, с. 254].
Важная составляющая заглавия – обращенность к читателю. Заглавие вводит читателя в мир произведения, направляет его внимание, помогает уяснить смысл целого [4, с. 134]. М.С. Альтман считает, что читатель прежде всего должен осмыслить заглавие, что сделать непросто [1, с. 25]. «Читатели, как и книги, конечно, бывают разные: одни читают книги от доски до доски, другие – от тоски до тоски, но во всех случаях справедливо изречение античного писателя и ученого Плиния Старшего, что нет такой плохой книги, из которой нельзя было бы извлечь что-нибудь хорошее. Но, разумеется, при условии, что сам читатель – хороший. А хороший читатель внимателен ко всякой художественной детали. Чтобы понять говорящего, следует не только его выслушать до конца, но, что не менее важно, и с самого начала. Так и в отношении к чтению: не следует пренебрегать тем, с чего каждое произведение начинается, – его названием» [Там же, с. 29].
По мнению С.Н. Сергеева-Ценского, читательская восприимчивость не только не безгранична, но, напротив, очень ограниченна. Он сравнивал её с восприимчивостью писательской, объясняя читательскую ограниченность тем, что у каждого читателя есть своя специальность, в которой он должен быть мастер, а такой специальности, как «читатель», не существует даже в среде пенсионеров [13, с. 298.]
Работу над эпопеей «Севастопольская страда» С. Н. Сергеев-Ценский начал в 1936 году, и за этот год было написано свыше сорока авторских листов. Первая публикация эпопеи состоялась в журнале «Октябрь», а в 1939–1940 гг. эпопея вышла отдельным изданием в трёх книгах.
После выхода «Севастопольской страды» писатель столкнулся с тем, что слово «страда» употреблялось в Одессе с ударением «стрáда». В своей статье «Русский язык» С.Н. Сергеев-Ценский писал: «Это могло бы показаться лишним, что автора “Севастопольской страды” поправляли все кругом, когда он говорил “страдá”: “Почему это вы говорите как-то странно: “страдá”, когда надо “стрáда”?” Хотя бы вспомнили строчку из Некрасова: “В полном разгаре страдá деревенская…”». Сам он так объяснял причину вытеснения слова «страдá» (от «страдать») латинским словом «Stráda». Сергеев-Ценский связывал это с каменщиками-итальянцами, которые строили Одессу во времена Екатерины II. «Прежде чем строить весь обширный город, итальянцы построили для себя кварталы домов и по-своему, по-итальянски, назвали улицы в этих кварталах Stráda (улица) такая-то. Переделанное слово Stráda вошло и в немецкий язык – “штрассе”, и в английский – “стрит”. А в наш язык вошли производные от “стрáда”: автострада, балюстрада, эстрада» [11, с. 258].
Обратимся к словарям и рассмотрим значение лексемы «страда», закрепленное в словарях:
-
«1) Страда – напряженная летняя работа в период косьбы, уборки урожая. 2) Деревенская страда. 3) Боевая страда (переносное значение: о напряженных боевых действиях)» [15];
-
«1) Тяжелая летняя работа в период косьбы, жнитва и уборки хлеба. «В полном разгаре страда деревенская», Н. А. Некрасов. 2) Тяжкий труд, борьба (переносное значение книжн.). «Вся жизнь крестьянина есть сплошная страда», М. Е. Салтыков-Щедрин» [16].
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля представлен глагол «страдать» с толкованиями значений слова и примерами его употребления в устной и письменной речи XIX века в разных губерниях. Представлено и существительное «страда», которое толкуется как период полевых работ, например: « Страда страдити, стар., а ныне: страда и страду <…>, работать в поле, спешно сымать и убирать хлеб и сено. Страда ж. тяжелая, ломовая работа, натужные труды <…>; летние работы земледельца, особ. шесть недель жнитва и косьбы, уборка хлеба и покос. Нанимашеся на дневную страду , Пролог. на полевую работу. Женка с дочерью, тем страды по гривне на лето, стар. платы за страду . Одна пора: страда ! Страдуха пск. страда , уборка хлеба. Страдной казак, новг. батрак, нанятый на страду ».
Другое значение слова «страдать» трактуется как «бедовать, мучиться, маяться; терпеть боль; скорбеть, испытывать всякого рода лишенья. Рад страдать за веру, за Русь, за царя. Христос страдал, и нам велел. Страдовать, влад. отходить, умирать, кончаться, лежать в агонии, в страде . Выстрадал небесное царство. Пострадаем, Бога ради. Самое чувство страдающего, мука, мученье. Я же вас за все сии храбрые страдания благодарю и похваляю, говор. Грозный, о взятии Казани. Страда, вост. агония, предсмертное боренье, умиранье, кончина, отход». Только единожды глагол «страдать» трактуется как «биться, бороться». По В. И. Далю, « Страдать всюду заключает в себе понятие о терпении и труде» [14].
Рассмотрев значение слова «страда», которое раскрывает самую важную тему произведения Сергеева-Ценского и намечает доминанту, определяющую собой всё его дальнейшее построение [3, с. 202], можно сделать вывод, что перед нами такое название, которое соответствует определению Гальперина: «Название, метафорически изображенное в виде закрученной пружины, раскрывающей свои возможности в процессе развертывания» [4, с. 133].
-
С. Н. Сергеев-Ценский выбрал очень емкое заглавие для своего произведения, с разными оттенками смысла, проявил себя как тонкий знаток русского языка.
В его тексте Крымская война и оборона Севастополя – это и тяжкий воинский труд, и доблестное сражение, и мучения физические и душевные, и скорбь, и сама смерть, погибель. Писатель учитывает многозначность слова «страда» и тем самым превращает его в художественный концепт, отражающий авторскую позицию и творческую концепцию. Именно концептуализация слова обусловливает его использование в качестве заголовка.
Следует также учесть, что не последнюю роль в выборе заглавия для эпопеи С. Н. Сергеева-Ценского сыграло то, что писатель был широко начитан в древнерусской литературе, прекрасно знал и высоко ценил древнерусские воинские повести. Показателен его комментарий к афористичному описанию битвы в «Слове о полку Игореве», которое он запомнил на всю жизнь. «“На Немизе снопы стелют – головами! Молотят чепи харалужными (т. е. стальными), на тоце живот кладут, веют душу от тела! Немизе кровавее брезе не бологомъ бяхуть посеяни – посеяни костьми русских сынов!” Да разве я мог не полюбить певучей силы подобных строк и яркой образности картины боя…, данного как молотьба на току цепами?» [12, с. 254]. Параллель между изображением крестьянского труда и военного сражения – это устойчивый мотив старинных воинских повестей, русского военного эпоса, закрепленный во множестве словесных формул. На эту древнерусскую литературную традицию опирался Сергеев-Ценский, и заглавие эпопеи формирует древнерусский контекст как один из возможных культурных контекстов, в котором следует воспринимать данное произведение. Как показывают исследования С. Ю. Николаевой [7; 8; 9; 10], анализ литературных произведений нового и новейшего времени в контексте традиций древнерусской литературы позволяет более глубоко понимать их, более точно прочитывать авторскую точку зрения на описываемые события [7]. Обращаясь к «общим местам» русской культуры, писатели по-новому «объясняют факты и явления современной действительности, осмысливают эти факты в широком контексте исторического бытия нации» [Там же, с. 250]. По словам исследователя, «авторы произведений, опирающиеся на богатый духовный и эстетический опыт» древнерусской литературы, не ограничиваются фактографией и бытописательством, но «ставят вопросы веры и безверия, праведничества и заблуждений, святости и греховности и – как результат – решают проблемы русского национального характера», осмысливают их «с онтологической точки зрения, с учетом христианской (православной) системы ценностей и законов бытия, имеющей тысячелетнюю историю на Руси» [9, с. 41]. По нашему мнению, Сергеев-Ценский принадлежит к тому типу художников слова, чей «художественный мир складывался и утверждался на основе диалога с Древней Русью, при этом возникала новая целостная концепция человека, отмеченная историзмом особого рода» [7, с. 251]. Историзм мышления Сергее-ва-Ценского формировался на основе древнерусской традиции, и название произведения подтверждает это.
Таким образом, заглавие эпопеи «Севастопольская страда» С. Н. Сергее-ва-Ценского не просто отсылает читателя к истории Крымской войны 1853–1856 гг. и первой героической обороны Севастополя в 1854–1855 гг., но и задает ключ к интерпретации текста этого литературного шедевра.
Список литературы Художественный потенциал заглавия эпопеи С. Н. Сергеева-Ценского "Севастопольская страда"
- Альтман М. С. О названиях художественных произведений // Русская речь. 1969. № 1. С. 25-30.
- Веселова Н. А. Заглавие литературно-художественного текста: онтология и поэтика: дис. … канд. филол. наук: 10.01.08 / Н. А. Веселова: Тверской гос. ун-т. Тверь, 1998. 236 с.
- Выготский Л. С. Психология искусства. Ростов н/Д.: Феникс, 1998. 475 с.
- Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: КомКнига, 2006. 144 с.
- Зырянова С. А. Историческая эволюция заглавия художественного произведения // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2014. № 1. С. 291-295.
- Кржижановский С. Д. Поэтика заглавий. М.: Никитинские субботники, 1931. 36 с.
- Николаева С. Ю. Древнерусские памятники в литературном процессе (от Г. Р. Державина до Ю. П. Кузнецова): монография / Тверской гос. ун-т. Тверь, 2010. 252 с.
- Николаева С. Ю. Духовная реальность в поэмах Ю. П. Кузнецова «Молитва» и «Золотая гора» // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2009. № 2. С. 109-120.
- Николаева С. Ю. Жанровое своеобразие рассказа Ф. А. Абрамова «Из колена Аввакумова» // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 3. С. 41-48.
- Николаева С. Ю. О символике пейзажа в «Воскресении» Л. Н. Толстого // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 3. С. 78-85.
- Сергеев-Ценский С. Н. Русский язык // Сергеев-Ценский С. Н. Трудитесь много и радостно. Избранная публицистика. М.: Мол. гвардия, 1975. С. 258-262.
- Сергеев-Ценский С. Н. Рассказ и повесть // Сергеев-Ценский С. Н. Трудитесь много и радостно. Избранная публицистика. М.: Мол. гвардия, 1975. С. 254-258.
- Сергеев-Ценский С. Н. Эпопея «Севастопольская страда» // Сергеев-Ценский С. Н. Трудитесь много и радостно. Избранная публицистика. М.: Мол. гвардия, 1975. С. 294-302.
- Толковый словарь живаго великорусскаго языка Владимира Даля [Электронный ресурс]. URL: http://slovardalja.net/word.php?wordid=39261 (дата обращения: 20.03.2019).
- Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс]. URL: https://slovarozhegova. ru/word.php?wordid=30708 (дата обращения: 15.05.2019).
- Толковый словарь Ушакова. [Электронный ресурс] // Академик. URL: https://dic. academic.ru/dic.nsf/ushakov/1044522 (дата обращения: 15.05.2019).