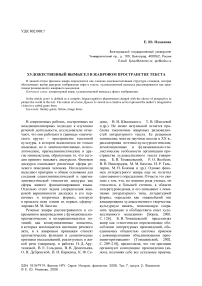Художественный вымысел в жанровом пространстве текста
Автор: Ильинова Е.Ю.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
В данной статье феномен жанра определяется как сложная лингвокогнитивная структура сознания, которая обеспечивает выбор ракурсов изображения мира в тексте, художественный вымысел рассматривается как креативная разновидность жанрового мышления.
Литературный жанр, художественный вымысел, фокус изображения
Короткий адрес: https://sciup.org/14737973
IDR: 14737973 | УДК: 802:008:7
Текст научной статьи Художественный вымысел в жанровом пространстве текста
В современных работах, построенных на междисциплинарных подходах к изучению речевой деятельности, исследователи отмечают, что они работают в границах «магического круга» – пространстве текстовой культуры, в котором выделяются не только языковые, но и лингвокогнитивные, психологические, прагмалингвистические и другие минисистемы, образующие то, что сегодня принято называть дискурсом. Феномен дискурса охватывает различные сферы речевого поведения человека. Исследователи выделяют критерии и общие основания для создания социолингвистической и прагма-лингвистической типологии дискурса как сферы живого функционирования языка. Отдельно стоит задача упорядочения жанровой вариативности дискурса в его первичных и вторичных формах, которую в прошлом веке одним из первых сформулировал М. М. Бахтин.
Речевые жанры рассматриваются в современном жанроведении с функциональнопрагматических и интеракциональных позиций, как коммуникативные концепты, в которых воплощаются интенции речевого акта, и к жанровым признакам относят прагматические функции и семантические признаки высказываний, реализуемых в живой речи (например, в работах Н. Д. Арутюновой, В. Е. Гольдина, В. В. Дементьева, О. Н. Дубровской, В. И. Карасика, К. Ф. Се- viewed as a creative act to represent the author’s imaginative дова, В. И. Шаховского, Т. В. Шмелевой и др.). Не менее актуальной остается проблема таксономии жанровых разновидностей литературного текста. Ее решением занимались многие научные школы в ХХ в., рассматривая эстетико-культурологические, композиционные и функционально-стилистические особенности организации пространства художественного текста (например, Б. В. Томашевский, Р. О. Якобсон, В. В. Виноградов, М. М. Бахтин, И. Р. Гальперин, М. Н. Кожина и др.). Однако феномен литературного жанра еще не получил однозначного определения. Отчасти это связано с тем, что, по мнению ряда ученых, он относится, в большей степени, к области литературоведения, и его связывают с понятиями литературного типа, литературной формы, определяя как «важнейший тип клиширования художественного творчества, культурную память, помогающую сохранить традицию и обобществить опыт художественного мышления» [Борев, 2003. С. 126]. Б. В. Томашевский представлял жанр как «генетически определяющее обособление литературных произведений, объединяемых общностью системы приемов с доминирующими объединяющими приемами-признаками» [Томашевский, 2002. С. 209–210], предполагая, что эти признаки организуют композицию произведения (канон), подчиняя себе все остальные приемы,
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 2: Филология © Е. Ю. Ильинова, 2008
необходимые для создания художественного целого. Одновременно с этим отмечалось, что каноничность жанра вступает в противоречие с широкими возможностями творческого участия авторов современных литературных произведений в развитии композиции и изменении литературного стиля.
Изучение феномена литературного жанра и сегодня сводится к описанию его функционально-стилистических и образных признаков или поиску генетически родственных черт группы литературных текстов, образующих литературное направление. Новые перспективы изучения природы литературного жанра выявляются, если вернуться к истокам – к идеям, которые содержатся в работах М. М. Бахтина, В. В. Виноградова и других известных ученых. Так, М. М. Бахтин в своей программной статье «Проблема речевых жанров» (1953) выделил три главных признака, определяющих лингвистическое понимание сущности речевого жанра – тематическое содержание, стиль и композиционное построение, отметив при этом, что жанр – это «особый способ мировидения, восприятия реальности» [Бахтин, 1996] .
Отметим, что признак композиционного построения, который связан с представлением о жанре как литературном каноне и отвечает за смысловую завершенность эстетической формы текста, можно считать самым устойчивым. Композиция интегрирует общее пространство текста, является «важнейшим организующим элементом художественной формы, придающим произведению единство и цельность, соподчиняющим его компоненты друг другу и целому» [Гуськова, 2003. С. 390]. Следование правилам композиции неизбежно приводит к завершенности и смысловой целостности литературного текста и определяет его генетическую принадлежность к определенному литературному жанру.
Стиль в рамках жанра представляется как стиль языка (совокупность приемов использования средств языка, характерных как для жанра, литературного направления, так и отдельного литературного произведения) и как стиль речи (особенности построения речи и словоупотребления, манера словесного изложения) [Там же. С. 702]. При определении стиля В. В. Виноградов акцентировал внимание на осознании функциональной целесообразности употребления различных средств языка (функциональных стилей языка), на рассмотрении словесного мастерства как закономерного соотношения мысли и языкового способа ее выражения (стиль литературного произведения или индивидуальный стиль автора). Соответственно, речевой стиль представляется как дифференцированный прием использования языковой системы [Виноградов, 1981. С. 162–165].
Совокупность выделенных признаков жанра проецируется на представление о нем как способе выражения мысли, закрепленном за отдельной литературной формой. Замысел реализуется в композиционной организации текста. Стиль языка, как нормированная, но гибкая система, обеспечивает выбор готовых языковых форм. Эта система допускает определенные индивидуальные отклонения от стилистических норм языка, что обеспечивает лингвокреативные потенции литературного жанра при реализации эстетико-художественного замысла его создателя. Подобное понимание природы жанра делает представление о нем пластичным: константные особенности композиции, которые поддерживают устойчивость эстетической формы жанра, «смягчаются» выразительными возможностями языковых стилей. В процессе индивидуального осмысления мира через призму текста автор проводит дополнительную стилевую обработку языка, творчески переосмысливая канон эстетической формы.
Самым сложным в триаде признаков жанра можно считать единство тематического содержания. Когда речь идет о первичных жанрах речи, то критерий тематического единства выглядит вполне естественным и логичным – он поддерживается следованием единой теме беседы и реализуется на уровне высказываний тематически-однород-ными цепочками слов и дейктических единиц, их заменяющих. В рамках литературного жанра тематическое единство текста основывается на концептуальной структуре, которая соответствует, с той или иной степенью достоверности, референтной ситуации, описываемой в тексте. Однако четко определить границы «тематичности» для любого современного литературного жанра не представляется возможным.
Более важной характеристикой жанра является представление о нем как об особом «способе мировидения, восприятия реальности», отмеченной в работах М. М. Бах- тина. На наш взгляд, она соотносится с современными положениями о лингвопсихокогнитивной природе содержания и формы текста, основанными на представлениях о связи языковых проявлений с областью социально-психологического бытия человека. Подобный взгляд на природу жанра существенно расширяет научное содержание термина: «Словесный компонент поведения определяется во всех основных существенных моментах своего содержания объективно-социальными факторами. Социальная среда дала человеку слова и соединила их с определенными значениями и оценками, социальная же среда не перестает определять и контролировать словесные реакции человека на протяжении всей его жизни» [Бахтин, 1996. С. 185]. Как представляется, при таком подходе подчеркивается роль прагматики, определяющей стереотипность и вариативность выбора средств выражения мыслей в жанровом пространстве текста.
Представление о жанре как разновидности речемыслительной деятельности предполагает наличие воли человека при выборе стереотипных моделей речевого поведения – автор сам избирает ракурс (фокус) изображения мира, а из арсенала жанра – языковые средства. Фокусность изображения как дополнительная характеристика жанра позволяет по-разному передать видение мира в тексте – относительно точно, копируя положения дел в мире реальном, или искажая его до неузнаваемости и превращая в так называемый мир ирреальный. В каждом случае литературный жанр предоставляет автору готовый сценарий речементальных действий по созданию эстетико-художественной формы текста (композиции) и варианты языковых комплексов, наилучшим образом выражающих его концепцию. Стереотипные средства литературного жанра творчески преобразуются в сознании автора. Одним из способов творческого использования арсенала жанровых приемов изображения мира является художественный вымысел, в нем проявляется «творящая сила» авторского сознания.
Художественный вымысел представляется важным лингвокогнитивным средством реализации особой потребности человека – описать свои духовные искания, психические состояния, в иносказательной форме передать свое личностное отношение к различным аспектам социокультурной жизни общества. В качестве средства он входит в эстетико-художественное пространство литературных жанров. Как отмечали известные ученые-филологи, «искусство познает жизнь, воссоздавая ее. Из некоего материала художник воссоздает образ жизни, строя его по конструктивному плану, который, по его мнению, свойственен данному явлению действительности» [Лотман, 1998. С. 378–379]. Так иллюзия реальности материализуется в жанровом пространстве художественного текста.
Художественный вымысел в данном исследовании определяется как «акт художественного мышления, как особая, присущая только искусству форма осмысления жизни, все то, что создается воображением писателя» [Борев, 2003. С. 88]. С одной стороны, вымысел связывается с жизненным опытом писателя: утверждают, что он не противостоит действительности, а является особой формой отражения действительности, присущей только словесному искусству [Давыдова, Пронин, 2003. С. 20–27], это «специфический акт художественного творчества, способствующий конструированию возможных вариантов бытия, представлению того, что может быть» [Бореев, 2003. С. 88]. С другой стороны, подчеркивается, что вымысел основан на работе воображения, обеспечивающего разведку нового, что это творческое, индивидуальноличностное «комбинирование и обобщение в процессе художественной деятельности, приводящее к появлению новых форм, которых никогда не было в жизни» [Там же]. Конструктивно-созидательная природа и продуктивные свойства художественного вымысла способствуют материализации любой художественной концепции автора в литературном произведении.
Изучение характера участия художественного вымысла в реализации приема фокусного изображения мира проводилось на материале текста-фантазии (текста, жанровое пространство которого характеризуется самыми креативными, а порой и аномальными способами изображения мира). Опираясь на категориально-смысловой анализ содержания, мы изучили логические противоречия («неправильности»), намеренно созданные воображением писателя. Если обычный язык передает представление о жизни как о сущности самостоятельной, от существования индивидуальной личности не зависящей, то в тексте изученной разновидности описание мироощущения писателя находится в безгранич- ном пространстве вымысла. Язык помогает выразить эти смысловые «неправильности» [Дмитровская, 1990]: при описании ирреального мира изменяется сочетаемость слов, возникают новые языковые выражения, которые фиксируют и закрепляют отличное от стандартного, обновленное представление о привычном мире, представляя ирреальные ситуации. Характер этих «неправильностей» может быть самым разным, но их функция едина – представлять особый, вымышленный мир со своим пространством-временем, нестандартной системой измерения и пропорций в нем, с необычными, порой аномальными по своим свойствам объектами, размещаемыми в нем. При этом внутритекстовое пространство-время непременно имеет общие черты с обычным пространством и временем человека, о чем неоднократно писали многие авторы [Хайдеггер, 1993. С. 313; Яковлева, 1994; Рябцева, 1997; и др.]. Плоскостное и объемнопространственное, дискретное и векторное представления о мире используются человеком при описание различных миров (физического, социального, духовного) и при конструировании ирреального пространства своих фантазий. В ходе исследования жанрового пространства фантазийного текста нами были выявлены следующие категориально-смысловые искажения, фиксирующие разные ракурсы словесного изображения мира («смысловые аномалии»): искажения представления о дискретности, мерности и векторности пространства-времени (сжатие, растяжение, замедление, ускорение, уничтожение потока времени; искажение идеи линейности и необратимости времени; введение параллельного существования разных миров; искажение этапов жизни человека; а также нарушения основных свойств пространства, соотношений субъектов и объектов, заполняющих сюжетное пространство текста и т. д.). Не менее значимыми для выражения специфики фокусного изображения в фантазийных текстах следует признать аномалии, основанные на видоизменениях конвенциональных представлений об объектах, размещаемых во внутритекстовом пространстве-времени (подробно об этом см.: [Ильинова, 2007]).
Ирреальный мир текста-фантазии – мир вымысла, и по своим онтологическим свойствам, в первую очередь, временным и пространственным, он отличается от реального мира. Его вехи неустойчивы, его признаки и границы легко меняются, но одновременно с этим они опираются на устойчивые признаки мира реального. В сюжетном пространстве художественного текста время реального мира с его непрерывностью, линейностью, необратимостью может существовать параллельно, как фон, либо как прямая противоположность миру реальному (например, в мифах, сказках, фантазиях или фантасмагориях). Искажается и само представление о точке отсчета времени – она может быть помещена в любом временном пласте, в том числе в будущем или инфернальном.
Так, отдельным персонажам романа Владимира Орлова «Альтист Данилов» (2006) приписывается способность «выскакивать за условную черту земного времени» – моментально перемещаться из одной точки пространства в другую или одновременно пребывать в нескольких, тем самым нарушая традиционное представление о течении времени: « В то не существующее для людей мгновение , когда чувства Данилова переносились на Пиренейский полуостров, Данилов слышал множество радиосообщений о Кармадоне. Но Данилову информация из вторых рук была не нужна. Не выходя из своего дома в Останкине , он уже грелся в Мадриде на площади Пуэрта дель Соль» (Орлов, с. 107). При описании перемещений главного персонажа романа демона Данилова в разные точки пространства утрачивается параметр «измерение пространства-времени»: « Времени в Москве не прошло ни секунды » (Орлов, с. 109). Как следует из дальнейшего повествования, тело персонажа может жить в земном времени, а «чувства» – вне него: « В перерыве дневной репетиции Данилов взял посмотреть газеты… Он тихонько передвинул пластинку на браслете и опять чувствами попал в Мадрид <…> Сдвинул пластинку на браслете. Пошел в буфет, взял бутылку воды “Байкал” и бутерброд с жесткой колбасой» (Орлов, с. 110–111).
Описанные в приведенных выше отрывках временные и пространственные аномалии бытия персонажа изображены на фоне течения обычного бытийного времени. В целом о проекционном соотношении временных планов в романе автор пишет сам, описывая обстоятельства, при которых герой вынужден жить одновременно в «“людском” и “демоническом” времени: Данилов сам себя изъял из людского времени. Если бы Кармадон отдыхал теперь в Москве <…>, то Данилов, даже и переходя в демо- ны, оставался бы в людском времени. Но Кармадон был теперь в отъезде. Данилов же ни на секунду не мог исчезнуть из Москвы, вот в наблюдениях за Кармадоном он и вынужден был втискиваться в демоническое время. Данилов как бы в электричке, на ходу, разжимал закрытые двери и оказывался между ними, то есть на самом деле он разжимал людское время, был вне его, но двигался вместе с ним, а потом отпускал двери времени, они сжимались опять, и Данилов возвращался в то самое мгновение, из которого по необходимости вышел» (Орлов, с. 132).
Изучение аномалий при изображении времени-пространства текста фантазийного жанра позволило выделить искажения представлений о скорости течения времени (от ускорения до сжатия), нарушения хронологии, смешение времени реального и ирреального, фантастического, не менее типичными следует признать попытки выхода за границы признанного людьми пространства-времени, будто бы имеющего иные единицы измерения.
Вымысел означает способность человеческого сознания к воображению, фантазированию и отражает особую форму речемыслительной деятельности человека, при которой проявляются его лингвокреативные способности к конструированию «иного мира (иных миров)», отличного от реального представления о физическом мире и социальном устройстве общества. Представление о вымысле в значительной степени противостоит гносеологии и онтологии научно обоснованного мира, в котором каждое наблюдаемое явление, каждый выделенный сознанием человека объект истинен, если проходит понятийно-категориальную аттестацию, получает объяснение, именование и вносится в «системный каталог сознания», отражающий всеобщие основы и принципы бытия, его структуру и закономерности.
Художественный вымысел обозначает представление об особом процессе речемыслительной деятельности и его продукте, в котором хорошо усвоенные представления о реальности подвергаются изменениям под воздействием авторской фантазии. Этот специфический акт художественного творчества есть «художественное переживание жизни» [Бахтин, 1996]. Реальные факты и выдуманные или даже фантастические элементы ком- бинируются в содержательном пространстве художественного текста, создавая эффект правдоподобия эстетического вымысла.
Итак, феномен жанра фиксирует существование стереотипных схем речевой деятельности, с помощью которых выражаются программные идеи, определяющие общий фонд текстовой культуры. Учет дополнительного понятийного признака – фокусности (ментальной программы интерпретации реальности) – объясняет относительную свободу автора в выборе языковых средств при создании художественного вымысла в границах жанра. Именно осознание повторяемости и стереотипности жанра позволяет поставить вопрос о переходе от описания внешних (языковых) проявлений жанра к изучению его лингвокогнитивных характеристик.