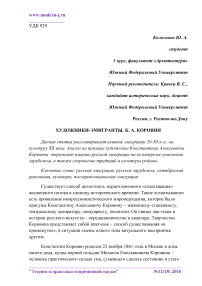Художники-эмигранты. К. А. Коровин
Автор: Колоскова Ю.А.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Статья в выпуске: 12-1 (18), 2016 года.
Бесплатный доступ
Данная статья рассматривает влияние эмиграции 20-30-х гг. на культуру XX века. Анализ на примере художника Константина Алексеевича Коровина отражает влияние русской эмиграции на культурные изменения зарубежья, а также сохранение традиций и культуры родины.
Русская эмиграция, русское зарубежье, октябрьская революция, культура, послереволюционная эмиграция
Короткий адрес: https://sciup.org/140267796
IDR: 140267796
Текст научной статьи Художники-эмигранты. К. А. Коровин
Существует способ целостного, нерасчлененного «схватывания» жизненного потока в единицу исторического времени. Такое «схватывание» есть проявление импрессионистического мироощущения, которое было присуще Константину Алексеевичу Коровину – живописцу-станковисту, театральному декоратору, мемуаристу, писателю. Он связал два этапа в истории русского искусств – передвижничество и авангард. Творчество Коровина представляет собой inter-esse – способ существования «в промежутке», в ситуации смены одного типа визуального восприятия другим.
Константин Коровин родился 23 ноября 1861 года в Москве в доме своего деда, купца первой гильдии Михаила Емельяновича Коровина – человека практического склада ума, сумевшего сделать состояние и стать владельцем ямщицкого «извоза». В пору расцвета своих коммерческих дел Михаил Емельянович, неравнодушный к музыке, часто приглашал музыкантов; домашние классические концерты наряду с народными песнями, историями паломников, старообрядческим укладом жизни составили немалую часть воспоминаний Константина о родном доме. Очевидно, именно от деда он унаследовал приключенческий дух, и внутренне беспокойство экспрессивной натуры. В автобиографической повести «Моя жизнь» Константин Алексеевич неоднократно упоминал о своей детской одиссее - поисках мыса Доброй Надежды, видевшегося ему в атмосфере бабушкиного дома, то в акварельных пейзажах матери, то в заброшенном доме лесничего: «… когда мы подошли, была маленькая пустая избушка с дверью, и маленькое сбоку окно - со стеклом. Мы ходили у избушки, потом толкнули дверь. Дверь отворилась. Там никого не было. Земляной пол. Избушка низенькая, так что человек взрослый достанет до потолка головой. А нам - в самый раз. Ну что это за избушка, красота. Наверху солома, маленькая печка кирпичная. Сейчас же зажгли хворост. Замечательно. Тепло. Вот мыс Доброй Надежды. Сюда я перееду жить». Другими словами, мыс Доброй Надежды для него был символом родного места, к которому может прикоснуться душа во время внутренних скитаний становящейся творческой личности, во время эмиграции...
Первыми учителями Конастантина стали родители. Отец, Алексей Михайлович Коровин, закончил юридический факультет университета, а мать, Аполлинария Ивановна Волкова, была арфисткой. Оба неплохо рисовали и поддерживали интерес к живописи у детей - Константина и старшего Сергея. Будучи взрослым, Константин вспоминал: «Я любил смотреть, когда у матери моей на столе лежали коробочки с разными красками. Такие хорошенькие коробочки и печатные краски, разноцветные. И она, разводя их на тарелке, кистью рисовала в альбом… Отец мой тоже рисовал карандашом. Очень хорошо, говорили все - и Каменев, и Прянишников». Дальний родственник мальчика по отцовской линии И. М. Прянишников, художник- передвижник, и Л. Л. Каменев, художник-пейзажист, развивали и направляли живописные способности братьев Коровиных. И надо признать, маленький Костя делал успехи, пробуя себя и в пейзаже, и в портрете. К его этюдам, которые Сергей, будучи студентом Училища живописи, ваяния и зодчества, показал А. К. Саврасову, педагог отнесся весьма благосклонно.
Годы обучения Конастантина Коровина в Училище живописи, ваяния и зодчества (1875-1886) совпали со знаменательными событиями в истории русского искусства. С одной сторону, это время заслуженного признания передвижничества, с другой, 70-е - также время новых веяний, когда русские мастера познакомились с пленэрной живописью и импрессионизмом; позже новый метод и направление повлияли на ряд маститых художников: И. Е. Репина, К. А. Савицкого, В. Д. Поленова. Но первое приближение к импрессионизму не коснулось основ русской реалистической школы. Именно в этот период четырнадцатилетний Константин поступил в Училище на архитектурное отделение. Отчасти выбор будущей профессии был продиктован усложнившимися материальным положением семьи. Однако талант пейзажиста, проявившийся у Коровина уже в ранних работах, обратил на себя внимание педагогов, и спустя год его перевели на живописное отделение. Основным жанром для Константина стал его излюбленный еще с отроческих лет жанр пейзажа. Он дал начинающему художнику возможность ярко и полно проявить свои живописные способности. У своего учителя А. К. Саврасова, родоначальника демократического пейзажа, он усвоил многие наставления, основным которым было требование работать на натуре.
В 1882 году Константин, прослушав основной курс, оставил Училище и поступил в Петербургскую Академию художеств. Но уже через несколько месяцев «академический дух» сковал темпераментную натуру молодого человека и утомил его. Он снова вернулся в Училище и поступил в мастерскую В. Д. Поленова, где уже работали И. И. Левитан, А. Я. Головин, А. Е. Архипов, С. В. Иванов, В. В. Переплетчиков. Новый наставник и открыл Константину импрессионистов. И уже в училище у Константина появился интерес к данному направлению, столь созвучному его мироощущению.
В 1885 году Константин Алексеевич познакомился с известным меценатом и предпринимателем С. И. Мамонтовым, что благоприятно отразилось на его дальнейшем профессиональном росте. В 1880-х гг. дом Мамонтова являлся сосредоточением интеллектуальной и художественной жизни Москвы. Среди постоянных участников мамонтовского кружка были И. Е. Репин, В. Д. Поленов, В. М. Васнецов, М. М. Антопольский, позднее к ним присоединились В. А. Серов и М. А. Врубель. В кружке преобладали идеи, направленные на возрождение интереса к традиционной русской культуре, фольклору, народному искусству и ремеслам, что впоследствии определило специфику русского модерна.
В 1897 году у художника родился сын Алексей Он покупает дачу в Охотино (ныне в черте города Переславль-Залесский). Там Коровин устроил мастерскую и работал каждое лето. Вскоре рядом построил дачу близкий друг художника Федор Шаляпин.
Коровин участвовал во многих выставках передвижников, затем – в выставках объединений «Мир искусства», «Союз 36», «Союз русских художников». В 1900 году он оформил русский отдел на Всемирной выставке в Париже, за что получил орден Почетного легиона. С 1901 года возглавлял совместно с Валентином Серовым портретно-жанровую мастерскую МУЖВЗ. Среди его учеников были Кузьма Петров-Водкин, Мартирос Сарьян, Николая Чернышев, Константин Юон, Илья Машков. В 1905 году Константин Коровин становится академиком живописи. В 1908 году умер брат художника Сергей, член товарищества передвижников. Смерть брата вызвала тяжелую болезнь Константина Коровина, он попал в неврологическую клинику с острым неврозом, из-за которого развилось заболевание сердца.
В 1911 году Коровин становится главным декоратором и художником-консультантом Императорских театров.
В 1913 году его шестнадцатилетний сын попал под трамвай и лишился обеих ног, после чего страдал от длительных депрессий и неоднократно пытался совершить самоубийство.
Несмотря на аполитичность Константина Алексеевича, Октябрьская революция затронула и его жизнь. В 1918 г. художника включили в состав «Отдела пластических искусств», комиссии по охране памятников искусства и старины при Совете рабочих и крестьянских депутатов. В 1921 г. при содействии Главполитпросвета даже была организована персональная выставка его живописных работ, годом позднее состоялась еще одна масштабная выставка в Государственной Третьяковской галерее. По разрешению правительства в 1923 г. Константин Коровин выехал для организации персональной экспозиции в Париж. Но поездка оказалась неудачной: задуманное мероприятие не состоялось, болезни супруги и сына сильно осложнили его материальное положение, да и в новой Стране Советов изменения шли настолько стремительно, что не вернувшийся в срок мастер был причислен к эмигрантам, хотя сам художник таковым себя не считал.
Шестнадцать лет вынужденной эмиграции – последний жизненный и творческий рывок Константина Алексеевича Коровина. Ему так и не удалось войти в парижскую художественную среду, и выставка 1929 г. в галерее «Студио» никак не изменила этого положения. Правда, он активно трудился как театральный художник над оформлением преимущественно русского оперного и балетного репертуаров для театров Лондона, Нью-Йорка, Турина;
ему посчастливилось работать над декорациями опер «Князь Игорь» и «Снегурочка», проходивших в 1929 г. в рамках «русских оперных сезонов» в Париже. Но это был уже творческий спад мастера, который ускорили нужда, болезнь и очередная попытка самоубийства сына. Желая поддержать последнего, а позднее – в целях дополнительного заработка, Константин Алексеевич обратился к литературному творчеству. Он пробовал себя здесь в различных жанрах: в рассказе, очерке, автобиографии. Когда-то в столь же широком жанровом спектре проходил его путь становления в живописи. Особое место в рассказах Коровина занимает пейзаж, который в основном относится к типу унылого пейзажа, близкого по настроению к его живописным изображениям Севера и средней полосы России 1880-х. Таким образом, искусство слова для художника и ностальгически воскресило образ потерянной родины, и соединило историю его жизни, невольно оказавшуюся разорванной эмиграцией, продлившейся до дня его кончины 11 сентября 1939 г.
Творчество Константина Алексеевича Коровина значительно опередило сценарий развития русского искусства первой половины XX века. Отход от сюжетного повествования и социальной проблематики, с одной стороны, культ этюда, полижанровость, с другой, подготовили глаз к новому типу считывания художественного пространства, которое в дальнейшем было воспринято экспериментаторами модернизма. Известный «коровинский мазок», то легкий, то пастозный, переходящий от лепки формы к едва заметному касанию, удивительно точно и правдиво передает ощущение полнокровного жизненного движения, любования натурой. Поэтому не случайно за коровинским импрессионизмом закрепились такие определения, как «импрессионистический пантеизм» и «эмпирический импрессионизм».
Список литературы Художники-эмигранты. К. А. Коровин
- Изд. Дом «Комсомольская правда», том 58 «Константин Алексеевич Коровин», 2010 г