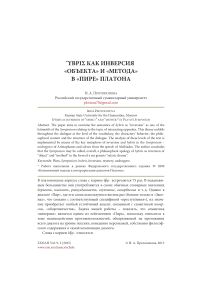Hybris как инверсия «объекта» и «метода» в «Пире» Платона
Автор: Протопопова Ирина Александровна
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Разное
Статья в выпуске: 2 т.9, 2015 года.
Бесплатный доступ
Задача работы - показать, что одним из лейтмотивов «Пира» является семантика гюбриса как «инверсии», которая относится к теме взаимодействия противоположностей, обыгрываемой на протяжении всего диалога на уровне лексики, поведения персонажей, собственно философского содержания и самой композиции диалога. Как инструмент анализа этих уровней текста используются ключевые метафоры инверсии и гюбриса в «Пире» - андрогины из речи Аристофана и силены из речи Алкивиада. Делается вывод, что в целом «Пир» можно назвать апологией философского гюбриса как инверсии «объекта» и «метода» в форме своеобразной «сатировой драмы».
Платон, "пир", гюбрис, инверсия, мистерия, андрогин
Короткий адрес: https://sciup.org/147103429
IDR: 147103429
Текст научной статьи Hybris как инверсия «объекта» и «метода» в «Пире» Платона
* Работа выполнена в рамках Федерального государственного задания № 2890 «Когнитивный подход к интерпретации диалогов Платона».
В платоновском корпусе слова с корнем ὑβρ- встречаются 75 раз. В подавляющем большинстве они употребляются в своих обычных словарных значениях дерзость, наглость, разнузданность, глумление, оскорбление и т. д. Однако в диалоге «Пир», где эти слова используются восемь раз (больше только в «Законах», что связано с соответствующей спецификой «преступления»), их значение приобретает особый устойчивый акцент, связанный с семантикой инверсии, «оборотничества». Задача нашей работы – показать, что семантика «инверсии» является одним из лейтмотивов «Пира», поскольку относится к теме взаимодействия противоположностей, обыгрываемой на протяжении всего диалога на уровне лексики, поведения персонажей, собственно философского содержания и самой композиции диалога.
Слова с корнем ὑβρ- относятся:
ΣΧΟΛΗ Vol. 9. 2 (2015)
-
1) к Эроту (гюбрис отсутствует у Эрота Афродиты Урании (181c4) и свойствен Эроту Полигимнии (188a7));
-
2) к Гомеру и одновременно к Сократу, переиначившим поговорку о «благих», идущих на пир (174b6);
-
3) к Сократу: из-за его иронии в отношении собственной мудрости (175e7); из-за его сходства с силенами и сатиром Марсием (215b8); из-за того, что он «презрительно посмеялся» над красотой Алкивиада (219c6); из-за сходства его речей со шкурой «гюбриста» сатира (221e3-4); из-за того, что он «переворачивает» свое поведение с юношами, превращаясь из поклонника в «объект» стремления (222a8).
Таким образом, на лексическом уровне гюбрис относится к Эроту; к Сократу, в котором трудно не увидеть воплощение Эрота,1 и к Гомеру, причем к последнему из-за «переиначивания» поговорки, т. е. инвертирования речи. Подчеркнём, что Сократу только в «Пире» устойчиво приписываются свойства «гюбриста».2 В целостном контексте диалога гюбрис Сократа выражается в постоянном «оборачивании» смыслов: как заявляет Алкивиад, «что бы он ни говорил, всё обстоит наоборот» (214d1–2).3
Алкивиад подчеркивает оборотничество Сократа сравнением его с полыми фигурками силена, внутри которых находятся агальмата – изваяния богов (ἔνδοθεν ἀγάλματα ἔχοντες θεῶν; 215a6–b3). Подобная фигурка – нечто вроде матрешки, но разница в том, что здесь «внешнее» (безобразный силен) и «внутреннее» (прекрасное божество) резко различаются. Речи Сократа таковы же, как и он сам: снаружи похожи на «шкуру гюбриста сатира» (221d7), зато внутри присутствуют «изваяния богов» (ἀγάλματα θεῶν; 215b3, 216e6, 222a4). Что же это за агальмата?
Алкивиад утверждает, что под маской силена в Сократе скрывается целомудрие (σωφροσύνη; 216d7),4 то есть в фигуре силена четко противопоставлены гюбрис как «внешнее», софросюнэ как «внутреннее». Но они одновременно и объединены, поскольку фигура силена – одна. Более того, после слов о софро-сюнэ Алкивиад продолжает так описывать «внутренние сокровища» Сократа: он не ценит ничего из того, что превозносит толпа, а «нас он тоже считает за ничто (ἡμᾶς οὐδὲν εἶναι), всю жизнь притворяясь (εἰρωνευόμενος) незнающим и насмехаясь над людьми» (216d7–e5). Такую характеристику вряд ли можно отнести к софросюнэ, а вот к гюбрису она отлично подходит: превознесение себя над людьми, насмешка, издёвка. Получается, что «внутренние сокровища» тоже состоят из гюбриса и софросюнэ, т. е. представляют собой нечто вроде «андрогина», монструозного единства противоположностей из речи Аристофана.5
Скрытые в Сократе «изваяния» Алкивиад характеризует как «божественные, золотые, прекрасные и удивительные» (216e6–217a1). В обмен на них Алкивиад, считающий Сократа единственным достойным себя поклонником, решает предложить ему свою цветущую красоту: «уступив Сократу, я мог бы услышать от него все, что он знает» (217a4–5). Таким образом, Алкивиад хочет получить мудрость, а точнее, странную смесь целомудрия и гюбриса Сократа в обмен на физическую любовь.
Тема подобного «обмена» возникает как аллюзия ещё в начале «Пира», когда Агафон предлагает Сократу располагаться рядом, чтобы, прикоснувшись к нему, он смог «отведать мудрости» Сократа (175c8–d1). В ответ Сократ сомневается, что мудрость при касании может перетекать из полного в пустое, как вода по шерстяной нити из одного сосуда в другой (175d3–7). Дальше эта тема открыто разворачивается в речи Павсания, который всячески аргументирует, что для юношей полезно угождать благородным поклонникам, если те способствуют их совершенствованию (183d6–185b): в любом случае прекрасно «отдаваться ради добродетели» (ἀρετῆς γ' ἕνεκα χαρίζεσθαι; 185b4–5).6 Вполне в русле этих представлений Алкивиад решает отдаться Сократу, чтобы получить доступ к его «внутренним сокровищам».
В своем рассказе об этом Алкивиад оказывается, конечно же, гюбристом7 – он подчеркнуто использует мистериальную лексику, сопоставляя тем самым происходящее на пиру у Агафона с посвящением в таинства.8 Описание «соблазнения» Сократа Алкивиадом (217–219d2) – на наш взгляд, несомненная аллюзия на восхождение к «прекрасному самому по себе» из речи Диотимы. Обе речи близки и лексически, и структурно, и содержательно: в обеих используется мистериальная лексика, достижение цели происходит поэтапно («эротическая лестница»; 211c1–3), а кульминация (внезапная встреча с «прекрасным по природе» / эротическая «атака» Алкивиадом Сократа) обнаруживает парадоксальное сходство искомого объекта («беспредметность» прекрасного самого по себе, «ничто» Сократа). Речи Диотимы и Алкивиада обыгрывают одновременно и мистерии, и друг друга: не только речь Алкивиада может пониматься как гюбристическая по отношению к «подлинно» мистериальной речи Диотимы, но и в словах жрицы, говорящей о самом возвышенном, можно прочитать сексуальные коннотации (210e3–5, 211c8–9).9 Таким образом, и здесь противоположности определенным образом если не совмещаются, то как бы «просвечивают» одна через другую, «оборачиваются».
И вот в кульминационной «сцене на ложе» (она предваряется «мистериаль-ным» упоминанием о запретности её для непосвященных – 218b5–7), Алкивиад предлагает Сократу «себя» как величайшую ценность. Сократ насмешливо отвечает, что Алкивиад хочет приобрести «настоящую» красоту взамен «кажущейся» (ἀντὶ δόξης ἀλήθειαν καλῶν κτᾶσθαι; 218e6), получить «странную», «непонятную красоту» (ἀμήχανόν κάλλος) в обмен на свою цветущую, но вполне обычную, красоту молодости. Это попытка «выменять медь на золото» (219a1), говорит Сократ, и советует Алкивиаду: «приглядись ко мне получше, чтобы от тебя не укрылось, что я ничто; οὐδὲν ὤν; 219a2).
Таким образом, желаемый Алкивиадом обмен невозможен, ведь «непонятная красота» Сократа – не предмет, не вещь, не знание, она такое же «ничто», как и «прекрасное само по себе», «не отягощенное никаким бренным вздором» (211e3), которое «можно созерцать только тем, чем надлежит его созерцать» (ὁρῶντι ᾧ ὁρατὸν; 212a3). «Прекрасное само по себе» сходно с Сократом – оба «ничто», оба неуловимы в качестве «вещи», как и Эрот, который то един (речь Федра), то двойствен (речи Павсания и Эриксимаха, Диотимы), то обладает многими свойствами (речь Агафона), то является объединением всего этого в Аристофановом андрогине: сначала он един, потом разрезан на половинки, а они вновь стремятся соединиться.
Помимо этого, дождавшись своей очереди восхвалять Эрота, Сократ переворачивает установленный на пиру порядок – он не хочет говорить монологично и заводит с Агафоном обычный свой «апоретический» диалог, а в ходе его выясняется: Эрот не объект, как его представляли предшествующие ораторы, а стремление, обусловленное нехваткой (200–202; тема намечена уже Аристофаном; 193a1–2). Однако это вовсе не ведет к признанию какой-то одной версии Эрота в качестве «главной», они продолжают сменять друг друга, просвечивая на разных уровнях повествования, в т. ч. поведения персонажей и различных деталей. Сократ сознательно разыгрывает двойную карту эротического гюбриса: он и стремление, т. е. некрасивый, необутый, грубый, взыскующий мудрости Эрот из мифа Диотимы (203b–204c), он же и объект – вспомним начало диалога, где Сократ в нарушение своей привычки надел сандалии и «украсился», чтобы идти «прекрасным к прекрасному».10
Алкивиад пока не обрел нужного «органа созерцания» – хоть он и увидел «притворное незнание», иронию Сократа, но не понял, что само притворство притворно: Сократ действительно «ничто»; иными словами, раскрыв последнюю «матрешку», там мы ничего не обнаружим. Именно эта «ничтожность» и позволяет Сократу, не отождествляясь ни с одной из противоположностей и вообще с чем-то определённым, нарушать принятые нормы – то есть быть подлинным гюбристом. В сцене соблазнения Сократ нарушает традиционный порядок обмена «мудрости» на «молодость», и посрамленный Алкивиад обозначает «отказ» Сократа именно как гюбрис (219с), распространяющийся и на других юношей, с которыми Сократ меняется ролями: подобно Алкивиаду, они из объектов поклонения вдруг превращаются в поклонников Сократа (222a8–b4).
Из рассказа Алкивиада мы видим, что Эрот как объект не только на словах, а «вживую» превращается в Эрота-стремление, и наоборот. Незадача в том, что бывшие любимцы, а теперь поклонники, не понимают, куда им стремиться – ведь искомый «объект», Сократ, неуловим.11 Вместо получения «чего-то» (например, некой мифической «мудрости») как результата привычного обмена они оказываются в состоянии растерянности и атопии, – зато им приходится менять свою позицию во взаимодействии с «другим», что даёт возможность и на себя взглянуть по-другому, тем самым оборачивая (μεταστρέφω) свою «способность видеть» (Rep. 518d4–6). С точки зрения диалектики, важнейшим смыслом такой инверсии является изменение оптики: рассматривать
378 Hybris как инверсия «объекта» и «метода» в «Пире» Платона предмет исходя из рассмотрения своего способа «схватывания». На наш взгляд, постижение Эрота-объекта посредством Эрота-стремления, ведущее к «прекрасному самому по себе» – метафора ноэсиса, описанного в «Государстве»: «самими идеями через них самих» (αὐτοῖς εἴδεσι δι' αὐτῶν) восходить к беспредпосылочному началу (Rep. 510b6–9). Такое восхождение к условному οὐδὲν посредством постоянной инверсии «объекта» и «метода» и есть, на наш взгляд, главный философский гюбрис Сократа.
Вспомним, что в начале «Пира» тема гюбриса задаётся упоминанием того, как Гомер переиначивает поговорку, т. е. «оборотничество» в речи открывает лейтмотив инверсии в диалоге. Вспомним также, что Алкивиад уподобляет и речи Сократа фигуркам силенов – а это значит, что любая попытка вытащить оттуда какое-то завершённое «содержание» так же обречена на неудачу, как и «схватывание» самого Сократа в виде чего-то определённого. Так же устроены и тексты Платона: с одной стороны, по принципу «матрешки» (текст представляет собой несколько пересказов в пересказах), с другой – как своего рода андрогин, в котором сочетаются философия–поэзия, мистерия–пародия, гюбрис– софросюнэ, комедия–трагедия.12 В «Пире» именно Аристофан приближается к некоему удивительному единству – его андрогин поэтому тоже гюбрист, которого боги из-за страха перед его мощью делят пополам.13 На наш взгляд, андрогин из речи Аристофана и силен из речи Алкивиада – ключевые метафоры для раскрытия темы инверсии и гюбриса в диалоге, а в целом «Пир» можно назвать апологией философского гюбриса в форме своеобразной «сатировой драмы».
Список литературы Hybris как инверсия «объекта» и «метода» в «Пире» Платона
- Апт, С. К., пер. (1993) Платон. Собрание сочинений в 4-х тт. Москва. Т. 2. «Федр».
- Светлов, Р. В (2012) «Cократ в спартанском камуфляже», Логос 6 (90), 16-28.
- Фролов, Э. Д., пер. (1996). Андокид. Речи, или история святотатцев. Санкт-Петербург: «Алетейя».
- Bacon, Helen H. (1959) “Socrates Crowned,” Virginia Quarterly Review 35, 415-430.
- Burkert, W (1987) Ancient Mystery Cults. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Bury, R. G. (1909) The Symposium of Plato. Cambridge: Heffer and Sons.
- Clay, D. (1975) “The Tragic and Comic Poet of the Symposium”, Arion 2, 238-261.
- Corrigan, K. and Glazov-Corrigan, E. (2004) Plato’s Dialectic at Play: Argument, Structure, and Myth in the Symposium. Pennsylvania: University Park.
- Dalmeyda, G., ed. (1930), Andocide. Discours. De mysteriis. Paris: Les Belles Lettres.
- Henderson, J. (19912) The Maculate Muse. Obscene Language in Attic Comedy. New York: Oxford University Press.
- Gagarin, M. (1977) “Socrates’ Hybris and Alcibiades’ Failure,” Phoenix 31, 22-37.
- Moellendorff, P. von (2009) “Man as Monster: Eros and Hubris in Plato’s Symposium”, Th. Fögen, M. M. Lee (Hg.), Bodies and Boundaries in Graeco-Roman Antiquity. Berlin/New York: 87-109.
- Robinson, S. R. (1998) Drama, Dialogue and Dialectic: Dionysos and the Dionysiac in Plato’s Symposium. Ottawa: University of Guelph.
- Rosen, S. (19872) Plato’s Symposium. New Haven: Yale.
- Rowe, C. J., ed. and trans. (1998) Plato, Symposium. Warrister, UK: Aris and Phillips Ltd.
- Sharpe, Matthew (2009) “Hunting Plato’s Agalmata,” European Legacy: Toward new Paradigms 14.5, 535-547.