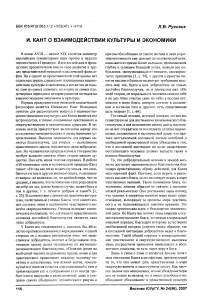И. Кант о взаимодействии культуры и экономики
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются основные особенности понимания экономики и культуры в классической немецкой философии и, в частности, в работах И. Канта. Значительное внимание уделено анализу взаимосвязи культуры и экономики. Освещается основной принцип кантовско-го понимания этой взаимосвязи: верховенство нравственности над экономикой.
Короткий адрес: https://sciup.org/147150495
IDR: 147150495
Текст научной статьи И. Кант о взаимодействии культуры и экономики
В конце XVIII —■ начале XIX столетия эпицентр европейских гуманитарных наук прочно и надолго переместился в Германию. Идеи английских и французских просветителей нашли свое развитие в трудах представителей немецкой классической философии. Ни у одного из представителей этой школы нет отдельных трудов, специально посвященных взаимодействию культуры и экономики, и все же это не только один из самых сложных, но и один из самых плодотворных периодов в истории развития взглядов на взаимоотношение экономики и культуры.
Первым представителем немецкой классической философии является Иммануил Кант. Исходным пунктом для рассмотрения вопроса о взаимоотношения экономики и культуры для Канта является его антропология, а точнее, соединение чувственного и сверхчувственного в человеческом существе. В человеке всегда присутствует антагонизм между его естественно-экономическими и нравственными устремлениями. Высшим принципом для первых является благополучие, для вторых — выполнение нравственного закона, называемое нами добродетелью. Но человеческая природа едина и это единство требует высшего синтеза обеих сторон нашего существа. Оно есть некая золотая середина. В работе «Об изначально злом в человеческой природе» Кант пишет: «Но так как легко может случиться, что ошибаются и в том и другом мнимом опыте, то возникает вопрос: не возможно ли, по крайней мере, что-то среднее, а именно, что человек как член рода своего ни добр, ни зол, или во всяком случае, может быть и тем и другим, т. е. отчасти добрым и злым?» [1, с. 25]. В соответствии с приматом практического разума, свойственным учению Канта, этот синтез может состоять лишь в подчинении чувственного момента сверхчувственному. Отсюда вытекает синтетическое положение, что для нашего нравственного сознания достойной благополучия является одна лишь добродетель.
У Канта мы сталкиваемся с, казалось бы, абсолютно противоположными утверждениями: с одной стороны он с полным ригоризмом учит, что нравственная добродетель состоит в безусловном подчинении закону долга независимо от жизненноэкономического благополучия, «Понятие долга во всей своей чистоте несравненно проще, яснее и для практического применения каждому человеку понятнее и естественнее, чем всякий мотив, почерпнутый из (понятия) счастья или смешанный с ним и принимающий его в соображение (что всегда требует много искусства и размышления); даже в суждении самого обыденного человеческого разума и притом обособленно от такого мотива и даже в противоположность ему доходит до человеческой воли, оказывается гораздо более сильным, проникающим глубже и сулящим больший успех, нежели все побуждения, заимствованные от низшего, своекорыстного принципа» [1, с. 74], с другой в качестве понятия высшего блага он выдвигает требование мыслить мир так, будто в нем добродетель не только достойна благополучия, но и причастна ему. «По моей теории, не моральность человека сама по себе и не дно лишь счастье само по себе, а высшее возможное в мире благо, которое состоит в соединении и согласии того и другого, есть единственная цель творца» [1, с. 66].
Тот самый человек, который говорил, что все мы существуем не для достижения экономического благополучия, а для исполнения своего долга, настолько не мог оторваться от последнего остатка эвдемонизма, заложенного в человеческой душе, что признал неотъемлемой составной частью всеобщей и необходимой нравственной веры убеждение в том, что в последней инстанции на долю нравственно поступающего человека должно выпасть также и высшее благополучие.
То, что добродетельный человек в земной жизни не достигает экономического благополучия благодаря нравственному образу действий, для Канта неоспоримый факт. Поэтому, если верить в реальность высшего блага, то его не следует искать в мире чувственных явлений. Такое понимание блага, естественно, никоим образом не связано с экономической реальностью. Оно достижимо лишь потому, что человек в сверхчувственном мире ведет существование, выходящее за пределы мира чувственного и не подчиняющееся законам времени. Это скорее критическая идея о бессмертии человеческой души. По Канту мы потому лишь уверены в осуществлении высшего блага, что верим в моральный мировой порядок, благодаря которому естественно необходимый процесс устроен таким образом, что в последней инстанции добродетель ведет к благополучию. Такой общий порядок и взаимодополнение чувственного и сверхчувственного мыслимы лишь посредством признания наивысшего и абсолютного существа, то есть через веру в Бога.
Лишь в связи с этим становится вполне понятным отношение Канта к метафизике, претендующей на то, что она может дать представление о мире сверхчувственном и недоступном опыту. Как научное знание она невозможна, но как убеждение веры она не только возможна, но и имеет всеобщее и необходимое обоснование в нравственной культуре человека. Следовательно, этика как часть духовной культуры, может опираться не на какое-либо частное, связанное с жизненно-экономическим опытом основание, не на какую-либо попытку научной метафизики, а лишь на «трансцендентальный факт» нравственного сознания и на анализ его априорности. И это учение не только не может быть выведено из теоретического мировоззрения, но, напротив, само служит тем единственным путем, которым можно обрести убежденность в сверхчувственной сущности вещей. Нравственно-культурная действительность, таким образом, становится эпицентром и основой всей человеческой жизни. Но ее никогда нельзя доказать, в нее можно лишь верить.
Здесь мы переходим к кантовской философии религии, или, точнее сказать, моральной теологии. Ее основным пунктом служит философское осмысление учения о грехе. Факт нужды в искуплении для Канта коренится в двойственности человеческой природы, в силу которой естественный механизм со своим стремлением к достижению экономических благ находится в отношении антагонизма к законам нравственной культуры. Но это никоим образом не значит, что сфера экономической жизни осуждается и определяется как зло. Стремление к экономическому благополучию, возникающее под влиянием чувственных побудительных причин, ни в коем случае не может быть злым, так как зло, точно так же, как и добро, обозначает моральный критерий и не имеет никакого смысла в области механизма побуждений, данного в явлениях. Предикаты «добрый» и «злой» неприменимы ни в мире умопостигаемом, ни в мире чувственном, если рассматривать эти миры порознь. Там, где имеет значение один только нравственный или же один только естественный закон, там нет ни доброго, ни злого. Доброе и злое предполагают известное отношение между эконо-мически-чувственными и культурно-нравственными мотивами. Нравственный закон требует подчинения экономических побуждений нравственным, и Кант называет доброй волю, в которой это отношение действительно берет верх. Но в реальном человеческом существе это правильное отношение между побудительными причинами с самого начала существует в перевернутом виде. С сознанием нравственного закона у человека соединяется подчинение этого закона его экономическим интересам.
Эту исконную «наклонность» человеческой природы отодвигать в сторону уже познанный закон нравственной культуры и следовать экономическому побуждению, Кант называет коренным злом, в какой то мере свойственным всему человечеству. Задача религиозной жизни заключается в борьбе доброго (нравственного) и злого (экономического) в человеке. В борьбе, которая должна в итоге закончиться победой доброго начала, существующего в нас в виде абсолютного сознания долга. Кант пишет: «человек со всей ясностью сознает, что он обя зан исполнять свой долг бескорыстно и должен полностью обособлять свое стремление к счастью от понятия долга, чтобы иметь его совершенно чистым; Или если он думает, что он этого не сознает, то можно от него требовать, чтобы он сознавал это, поскольку это в его власти? Ведь именно в этой чистоте следует искать истинную ценность моральности, и, значит, человек должен быть в состоянии искать ее» [I, с. 72].
Для Канта нравственная культура определяет не только экономику но и политику. Он полагает,, что нравственное сознание требует, чтобы поступок был искуплен страданием, за осуществление которого должно отвечать государство, так как единичное лицо не в состоянии это сделать. Все его учение о государстве сводится к основной мысли о том, что государственная правовая жизнь должна состоять в устроении внешней совместной жизни людей согласно принципам нравственной культуры.
Именно поэтому он вступает в самое резкое противоречие со всеми прежними теориями, всегда искавшими цель государства под влиянием экономического эвдемонизма — безразлично, принимали ли они за руководящую нить индивидуальное или социальное благополучие. Кант считает, что историю человека и его культуры нельзя философски понять, не зная ее цели. Лишь знание той задачи, которая должна быть выполнена посредством этого развития, дает возможность судить о том, были ли в нем отдельные движения действительными шагами вперед или назад. Философия истории как оценка историческо-культурного процесса существует лишь при условии телеологической точки зрения. В скрытом виде телеологическая точка зрения присуща и натурализму, но при этом целью признается экономическое благополучие в грубой или более утонченной, в индивидуальной или социальной форме. У Канта же цель истории культуры нравственная. Он с одной стороны, приспосабливал к нуждам своей системы принципы эпохи Просвещения, а с другой — одновременно определял последним их пределы. Особенно явно это проявляется в его маленьких статьях, рассматривавших эти вопросы. Здесь он стоял перед величайшей проблемой, волновавшей умы XVIII века, перед вопросом об отношении человеческой культуры и природы. До него ответ на этот вопрос в большинстве случаев давался в том смысле, что значение, происхождение и цель культуры заключается в достижении большего экономического благополучия, чем то, какое в состоянии предоставить человеку как существу чувственному природа. Такой подход привел в учении Руссо к выводу, что культура не достигает этой цели, что она хуже естественного состояния и поэтому нужно порвать с ней все связи и пойти новым и лучшим путем. Кант сохранил эти мысли женевского философа во всей их силе и над взгля-
Философия
дами Руссо возвысился лишь в том смысле, что на основе своей философии выработал иное понимание культуры.
Культура для него есть сознательная работа человеческой воли и поэтому ценность ее заключается в ее нравственном характере. Говорить о естественном состоянии человека имеет смысл лишь постольку, поскольку под ним подразумевается естественная жизнь стремлений, направленных к экономическому благополучию без всякого осознания нравственной задачи. Это — состояние абсолютной невинности, состояние райского блаженства. Оно не есть факт опыта. Но если представлять его (и Кант делает это вместе с Руссо) как состояние, предшествующее культуре, то исходя из его эвдемонистического характера, нельзя понять постепенного развития нравственной культуры. Знание нравственного закона возникает сразу и может основываться лишь на том, что данный закон входит в сознание лишь при своем нарушении. Когда в человеческой природе проявляется коренное зло (примат экономических потребностей над нравственными), вместе с этим должны проснуться и совесть, и сознание нравственно-культурной задачи. «Предполагаемое начало» всемирной истории, то есть идея этого начала, хотя и возможная, но не доказуемая посредством опытного знания, есть проявление коренного зла, восстание против нравственного закона, входящего в сознание при самом восстании — это и есть грехопадение, как начало культуры. «Эти пороки, собственно говоря, не возникают сами собой из природы как своего корня; при усиленном домогательстве со стороны других ненавистного нам превосходства над нами они суть склонности: ради своей безопасности добиться превосходства над другими как предохранительного средства, в то время как природа хотела использовать идею такого соревнования (которое само по себе не исключает взаимной любви) только как побуждение к культуре. Пороки, которые прививаются этой наклонности, могут поэтому называться пороками культуры» [1, с. 29]. И после такого возникновения нравственного сознания вся история человеческой культуры представляет собой лишь работу воли над задачей приведения себя в соответствие с нравственным законом. С грехопадением естественное состояние утрачено навсегда, потому что, раз нравствен ное сознание возникло, оно уже никогда не может исчезнуть. Но вместе с естественным состоянием исчезает навсегда и простодушное осуществление стремления к благополучию. Изгнанный из рая, человек испытывает тягость труда. Начинается антагонизм сил, складывается и усложняется игра общественно-культурной жизни, растет добродетель, а вместе с ней и порок. Напряжение сил становится все сильнее и сильнее, из разрешения каждой задачи возникает новая, еще более трудная. И в то время, как нравственная работа, хотя и бесконечно медленно и с перерывами, но все же продвигается к своей цели, внешние отношения человеческой культуры настолько усложняются, что счастье индивидуума становится все более сомнительным и более редким. Каждое приобретение в нравственной культуре покупается ценой потери в экономическом благополучии отдельной личности. Нравственная работа человека возможна лишь как отречение от своего естественного экономического благополучия. Ввиду этого культура со всей своей работой и со всем страданием, которое в необходимой и во все возрастающей степени связано с ней, действительно была бы, как это и казалось Руссо, безумием и преступлением по отношению к счастью единичного индивидуума, если бы именно экономическое благополучие было назначением человеческого рода и если бы ценой отречения от райского блаженства не приобреталось высшее, абсолютное благо нравственности. При тех потерях, которые при данной работе культуры испытывает каждая отдельная личность, утешение может состоять лишь в том, что приобретает целое. Но это приобретение целого заключается не в экономическом благополучии общества, а в достижении нравственной цели — ведь нелепо говорить, как это часто делают, о росте общего благополучия в то время, когда возрастает неблагополучие всех отдельных индивидуумов. Таким образом, в философии Канта мы видим один из самых ярких примеров этического ригоризма, в котором все сферы человеческой жизнедеятельности полностью подчинены диктату нравственной культуры.
Список литературы И. Кант о взаимодействии культуры и экономики
- Кант И. Сочинения в 6-ти т. -Т. 4. -М., 1965. -436с.