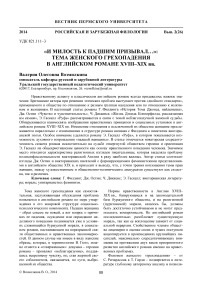«И милость к падшим призывал...»: тема женского грехопадения в английском романе XVIII-XIX вв
Автор: Возмилкина Валерия Олеговна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 2 (26), 2014 года.
Бесплатный доступ
Нравственному аспекту в классическом английском романе всегда придавалось важное значение. Британские авторы при решении этических проблем выступают против «двойного стандарта», применяемого в обществе по отношению к разным группам населения или по отношению к мужчинам и женщинам. В настоящей статье романы Г. Филдинга «История Тома Джонса, найденыша», Дж. Остин «Чувство и чувствительность», Ч. Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим», Э. Гаскелл «Руфь» рассматриваются в связи с темой неблагополучной женской судьбы. Обнаруживается взаимосвязь изображения нравственных принципов и социальных установок в английском романе XVIII-XIX вв. Изменение отношения к исключенной из общества женщине прослеживается параллельно с изменениями в структуре романа начиная с Филдинга к писателям викторианской эпохи. Особое внимание уделяется роману Э. Гаскелл «Руфь», в котором показывается возможность духовного возрождения «падшей женщины». В статье отмечается новаторская сосредоточенность сюжета романа исключительно на судьбе отвергнутой обществом героини и ориентация Э. Гаскелл на общехристианские ценности как основу нравственного поведения человека. Значимое место отводится характеристике религиозных взглядов писательницы, которая выделяла проблему поликонфессиональности викторианской Англии в ряду наиболее важных. Автор статьи соотносит взгляды Дж. Остин и викторианских писателей с формирующимися феминистскими представлениями в английском обществе XIX в. и приходит к выводу, что, с точки зрения воплощения темы прав женщин, между художественным и общественно-политическим дискурсами существуют как сходства, так и различия.
Г. филдинг, дж. остин, ч. диккенс, э. гаскелл, викторианская литература, мораль, унитарианство, феминизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14729312
IDR: 14729312 | УДК: 821.111-3
Текст научной статьи «И милость к падшим призывал...»: тема женского грехопадения в английском романе XVIII-XIX вв
Тема женского грехопадения как самостоятельная, заслуживающая обсуждения проблема появляется в английском романе по мере утверждения в его жанровой структуре социальнопсихологического компонента. Падшая женщина – образ совсем не новый, а вот вопрос о причинах ее падения, осуждение или оправдание недолжного поведения поднимается уже в условиях сложившейся буржуазной морали, в социальном романе, настаивающем на неразрывной связи общественных и нравственных закономерностей. В данном случае мы имеем в виду женские образы, которые, в терминологии В. Гюго, можно отнести к «отверженным»: девушка – героиня романа – проявляет «неблагоразумие», поддавшись искреннему чувству, но, став жертвой своего соблазнителя, оказывается, по сути, выброшенной из общества.
Нормы нравственности в Англии XVIII– XIX вв., базирующиеся и на законодательной базе буржуазного общества, и на религиозной (пуританской) морали, казалось бы, должны быть достаточно устойчивыми и не могут предполагать компромиссов. Но английский роман последовательно разоблачает существующую мораль, так как ее воплощение зависит от социальной иерархии. Свойственное членам общества лицемерие в оценке своих и чужих поступков акцентируется в произведениях крупнейших писателей, максимально сосредотачивающих внимание на протяжении двух веков приоритетного развития английского романа именно на нравственных проблемах.
Феномен женского «грехопадения» – от С. Ричардсона к Т. Гарди – подвергается в литературе глубокому авторскому анализу и позволя-
ет, в свою очередь, выявить соотношение социальной и психологической составляющих в художественном мире того или иного произведения. Важным становится понимание тех этических и эстетических позиций, с которых английские писатели представляют читателю деликатную тему, определяют причины феномена и призывают читателей формировать собственное мнение о героине.
Образы незамужних женщин, их соблазнителей и, как следствие, незаконнорожденных детей широко представлены в английской литературе XVIII в. Для литературы эпохи Просвещения связанная с данными образами проблематика – это возможность определить границы порока и добродетели, которые существуют как основополагающие категории. Н. А. Соловьева в работе «Англия XVIII века: разум и чувство в художественном сознании эпохи» указывает на значимость формирования так называемой моральной философии в процессе познания нравственных проблем как обществом, так и литературой: «Шотландская школа моральной философии оказала существенное воздействие на всю культуру XVIII века, внедрившись в сентиментальный роман, эпистолярные жанры, памфлетную войну, способствовала формированию новой эстетики и этики, инициировала создание литературы назидательно-воспитательного толка и прочно закрепила за английской литературой эпитет дидактическая» [Соловьева 2008: 39].
Том Джонс в романе Г. Филдинга «Приключения Тома Джонса, найденыша» (1749), как следует уже из названия, – незаконнорожденный ребенок. Сам факт его «находки» заставляет читателя думать о том, кто же был матерью героя и какие обстоятельства заставили ее бросить сына на произвол судьбы. Автор романа держит читателя в неведении до самого финала произведения, хотя едва ли не каждый герой выдвигает свои предположения по этому поводу. Филдинг, как представитель эпохи Просвещения, обращается прежде всего к нравственной природе человека, заявляет о решающей силе добра в каждом из нас в борьбе со злом в этом мире. В этой эстетической установке крупнейшего британского романиста XVIII в. можно увидеть перекличку с идеями «моральной философии». А. Шефтсбери, в частности, полагал, что «нравственность заключена во врожденном нравственном и моральном чувстве, она отражает гармонию индивидуального и общественного, что характерно для общественных наций, какой представлялась Англия» [цит. по: Соловьева 2008: 27].
Несмотря на то что внебрачные связи между героями возникают в романе на каждом шагу (а едва ли не единственной по-настоящему добродетельной девушкой является возлюбленная Тома Софья), Филдинг не рассматривает ситуацию «падения» или соблазнения на уровне психологизма. Писатель создает комическую эпопею своего времени, а присущее или не присущее герою нравственное чувство может серьезно деформироваться под влиянием социальных установок. Деньги в романе Филдинга зачастую решают судьбы героев – в том числе и в любовных отношениях: «Мысль покинуть девушку раздирала его сердце; но сознание, что он будет причиной ее гибели и нищеты, было для него, пожалуй, еще большей пыткой» [Фильдинг 1973: 261].
Быть счастливой женщиной, с точки зрения героев романа Филдинга, значит, во-первых, быть замужем за состоятельным человеком или, во-вторых, иметь достаточное состояние для того, чтобы не быть замужем и при этом поступать, как тебе хочется. Примером может служить судьба сестры мистера Олверти – мисс Бриджет, которая родила мальчика вне брака и скрыла это. Лишь в финале романа интрига, связанная с происхождением героя, получает полное объяснение. При этом самой героине удалось избежать общественного осуждения и при жизни, и после смерти. О ее поступке с самого начала знало несколько человек, которых Бриджит удается подкупить, и они не раскрывают тайну, воспринимая поведение героини как вполне оправдываемую прихоть госпожи. А незаконнорожденный Том Джонс, пережив много испытаний, становится в результате всеми любимым, когда выясняется, что он имеет основания претендовать на состояние своего дяди.
В этом смысле судьба героинь, не имеющих ни денег, ни положения в обществе, гораздо печальнее; к примеру, здесь можно говорить о Дженни Джонс или Молли Сигрим. Именно Дженни Джонс долго считали матерью незаконнорожденного ребенка – Тома, и ей грозило пребывание в исправительном доме. «Однако благодаря заботам и доброте мистера Олверти Дженни скоро была удалена в такое место, куда до нее не доходили упреки…» [там же: 51].
Молли Сигрим, «одна из первых красоток в околотке» [там же: 145], скомпрометировала себя в глазах матери и соседей. «Мать первая заметила округление стана Молли и, чтобы скрыть беду от соседей, довольно безрассудно нарядила ее в широкое платье…» [там же: 147]. После церковной службы женщины «закидали ее грязью и мусором» [там же: 149]. Случилась стычка, которая закончилась тем, что девушку «водили к судье за то, что она брюхата» [там же: 163]. Об- щественное мнение, таким образом, сурово карало и нещадно осуждало тех, чьи деньги не могли перевесить общепринятых норм морали. И это на фоне того, что начиная с XVII в. в Англии формируется культ морали, разумного подхода к жизни и умеренности во всем.
История Нанси Миллер и Найтингейла демонстрирует двойственность морали в отношении к мужчинам и женщинам. Филдинг пишет об этических нормах нравственности, определяемых по двойному стандарту: «В XVIII веке существовал двойной стандарт нравственности; это был один закон для мужчин и другой для женщин, и каждый случай казался трансляцией в область морали требований биологической природы» [Allen 1954: 158]2. Возражая Тому Джонсу, Найтингейл говорит: «Здравый смысл служит порукой правильности ваших слов, но вы хорошо знаете, что свет смотрит на вещи совершенно иначе: если я женюсь на шлюхе, хотя бы на своей собственной, мне стыдно будет показаться на глаза людям» [Фильдинг 1973: 647]. Давление общественных норм моментально охлаждает пыл вчерашнего влюбленного и делает из него жестокого вершителя судьбы невинной девушки из бедной семьи, которая навсегда останется опороченной и непринятой даже своим, пусть и соседским, обществом деревенских кумушек.
Судьба героинь из низшего сословия, соблазненных и рискующих быть неминуемо брошенными и опозоренными, сложилась, впрочем, благополучно в комической эпопее писателя XVIII в. Любимый герой Филдинга Том Джонс устраивает их судьбу. Насколько эмоциональны слова героя, когда Том взывает к нравственности своего друга: «С той минуты, как вы обещали жениться на ней, она сделалась вашей женой, и если согрешила, то больше против благоразумия, чем против нравственности. И что такое свет, которому вам стыдно будет показаться на глаза, как не скопище подлецов, глупцов и развратников?» [Фильдинг 1973: 647].
Саркастический тон автора сопровождает героев на протяжении всего романа. «Как истинный писатель эпохи Просвещения Фильдинг стремится еще и осмыслить свой успех теоретически, закрепить его в рациональной, логически выстроенной системе. Отсюда – своеобразие композиции “Тома Джонса”. Он состоит из собственно повествовательной части и вступительных глав к отдельным книгам. В них же автор высказывает свои нравственные взгляды, давая своеобразный комментарий к поступкам героев» [Кагарлицкий 1973: 10]. Быть хорошим человеком или плохим – зависит от обстоятельств. Лишь немногие из героев решают для себя одно- значно: человечным надо оставаться всегда, вне зависимости от жизненных передряг.
Мысли о материальной выгоде не приходят в голову самому Джонсу, Софье, мистеру Олверти: «Бедняга Джонс был добрейшей души человек и в полной мере обладал слабостью, называемой состраданием и лишающей такие несовершенные характеры благородной душевной твердости, которая как бы замыкает человека на себе и позволяет ему катиться по свету полированным шаром, не цепляясь ни за чье чужое горе; он не мог поэтому не исполниться сожаленья к участи бедной Нанси, любовь которой к мистеру Найтингейлу была для него столь очевидна» [Фильдинг 1973: 641]. Их поступки часто именуются другими героями «безумными». Так, стремление Джонса полюбоваться видом с вершины горы – просто так, без причины – рождает в Партридже ужас: «Да в уме ли вы, сэр!» [там же: 369]. Нелицемерно разумное отношение к жизни в сочетании с искренностью и сердечностью, по мнению Филдинга, позволит девушкам избегать щекотливых ситуаций, а юношам – с честью носить звание мужчины.
К началу ХIХ в. права женщин начинают осознаваться на уровне идеологии, если иметь в виду знаменитое эссе Мэри Уолстонкрафт «Защита прав женщин» (1792). Однако проникновение радикальных «феминистских» идей в роман – процесс не одномоментный. Романный XIX в. в Англии начинается с романтиков и Дж. Остин, «сходство которой с Уолстонкрафт как феминистских моралистов поражает» [Kirkham 1983: 48]3. «Джейн Остин не разделяет чересчур оптимистичной веры Просветителей в лучшие стороны человеческой натуры. Она была одинаково далека как от прекраснодушных иллюзий Шефтсбери, так и от горького пессимизма Мандевиля и Смоллета» [Палий 2003: 196]. Вместе с тем, в отличие от романтиков, Остин обращает принципиальное внимание на систему ценностей и формирует их как викторианские еще до наступления эпохи королевы Виктории.
В романе Дж. Остин «Чувство и чувствительность» (1811) судьба брошенной соблазнителем девушки занимает пусть не центральное, но определенно значимое место. В 31-й главе романа главная героиня Элинор в беседе с полковником Брэндоном узнает о несчастной судьбе его близкой родственницы Элизы и ее дочери, «малютки-девочки, плода ее первого греха» [Остин 2012: 204]. Девочку, оставшуюся с ранних лет без матери и средств к существованию, отдали в пансион. Уже в юности она завела знакомства в Бате и уехала неведомо куда. Мистер Уиллоби, как оказалось позже, «…оставил девушку, чью юность и невинность погубили, в самом отчаянном положении – без дома, без помощи, без друзей, скрыв от нее даже свой адрес!» [Остин 2012: 205]. Воспользовавшись неопытностью девушки, молодой Уиллоби обеспечил ей столь же злополучный жребий, что и жребий ее матери. Участь девушки оказалась решенной, без состояния и заметных в обществе родственных связей она навсегда покинула свет. При этом репутация соблазнителя в светских кругах осталась незыблемой.
Эту историю великодушный полковник Брэндон рассказывает не столько в качестве предостережения сестрам Дэшвуд, одна из которых увлечена как раз мистером Уиллоби, сколько размышляя о «чувствах и здравом смысле» в обществе, которое ни тем ни другим не руководствуется. Однако соблюдение или несоблюдение нравственных правил у Остин все же прежде всего зависит от самого человека, а не от его окружения. Так, «неопытность, чрезмерная экзальтированность приносят Марианне немало огорчений. Но, благодаря тому что она обладает не только чувствительностью, но и здравым смыслом, она извлекает уроки из своих заблуждений» [Палий 2003: 86]. Финальный союз Марианны Дэшвуд и полковника Брэндона соответствует ценностной логике произведения, хотя и становится «предательством» по отношению к развивающемуся характеру героини [Kirkham 1983: 87]4.
Анализируя аксиологический аспект в романах Дж. Остин, А. А. Палий цитирует работу Л. У. Смит «Джейн Остин и драма женщины», согласно которой писательница «не бросала вызов обществу, но всегда искала способ облегчить положение женщины, и ее стремление достичь этих целей было необычным для того времени. Она показала многочисленные изъяны патриархального общества, где господином является муж… а в женах и дочерях поощряется смирение и покорность» [Палий 2003: 47]. Выступая за равный выбор для женщин и мужчин в вопросах брака и обязательно подводя к счастливому замужеству своих любимых героинь (в частности, Элинор и Марианну в романе «Чувство и чувствительность»), Дж. Остин, тем не менее, разделяет принятые представления о должном и недопустимом. Рассказывая о своей «падшей» кузине, полковник Брэндон ее не осуждает, но и не оправдывает: «Но можно ли удивляться тому, что верность подобному мужу хранить было трудно и что, не имея друга, который мог бы дать ей добрый совет или удержать ее … она пала» [Остин 2012: 202]. И расплата за «падение» аргументируется как обязательная: «Жизнь уже не могла дать ей ничего, кроме возможности достойнее приготовиться к смерти. И эта возможность была ей дана» [там же: 203].
Искупление греха страданием еще в большей степени соответствует представлениям о нравственности писателей-гуманистов викторианской эпохи. «Ранневикторианское время было, по сути, эпохой религиозной [Harrison 1973:150]5. Писатели-викторианцы нормы морали не только декларируют, но и стараются утверждать в жизни – вопреки социальной иерархии. С их точки зрения, отверженность героя (а тем более героини) может уже не быть прямым следствием его собственного поведения, но обстоятельств. Однако авторы наиболее знаменитых английских социальных романов показывают не «падение женщины из-за голода», как французский романтик В. Гюго, а все то же несоответствие требованиям разума и морального долга, которое может достаточно смело противостоять викторианским представлениям о «домашнем» предназначении женщины, но часто приводит к греху, более жестко наказываемому, чем в XVIII столетии. «Ни один викторианский романист, старающийся пробудить симпатию к падшей женщине, – отмечает Г. Каннингем, – не рискнул бы делать акцент на чувственности. Было сложно подвергнуть сомнению, что женщина может совершить подобную ошибку, серьезно не повредившись в уме» [Cunningham 1978: 29]6. Само выделение «падших» в особую общественную категорию свидетельствует о том, насколько далека викторианская литература от радикальных феминистских настроений. Динамика в борьбе за женское равноправие обозначится в большей степени с появлением работы Дж. С. Милля о «семейном подчинении» в 1869 г. Но до этого момента свои этические ценности успеет выработать большая викторианская литература.
Произведения классиков реализма XIX в. – Ш. Бронте, Ч. Диккенса, Э. Гаскелл, У. М. Теккерея – отличает острая социально-критическая пафосность; при этом «Диккенсу и Гаскелл ближе были проповеднические тенденции и идеи христианского милосердия, определившие этическое содержание их романов» [Сидорченко 2004: 22]. Э. Гаскелл и Ч. Диккенс живо интересовались судьбами девушек, которых воспитала улица. Они посещали приюты и больницы для бывших проституток, стремящихся расстаться с прежней жизнью. Более всего их интересовал вопрос дальнейшей социализации этих женщин. Судьбу одной из таких девушек описал Ч. Диккенс в романе «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» (1849).
Трагическая судьба Эмли, одной из центральных героинь романа Ч. Диккенса, предваряется ее встречей с эпизодическим персонажем – Мартой, которую все считали падшей женщиной. Мы не слышим рассказа о ее жизни, однако по некоторым деталям можем предположить еще одну историю обманутой страсти и искреннего раскаяния: «Я стану лучше… Дайте мне уехать из этого города, где все меня знают с детства!» [Диккенс 2012: 359].
После этой встречи Эмли потеряла покой: «Я совсем не такая хорошая, какой должна быть» [там же: 360]. Она будто предчувствовала, что ее судьба будет схожа с судьбой Марты и только верный Хэм в состоянии уберечь ее. Однако на пути появился школьный товарищ Дэвида Копперфилда – Стирфорт, чье «преступное самолюбование» во многом объясняется «чрезмерной заботой и восхищением обожающей его матери. Но роман соединяет этого слабохарактерного персонажа с Эмли, вышедшей из семьи, которая может служить образцом домашней добродетели» [Barickman, MacDonald, Stark 1982: 68]7. Эм-ли мечтает вернуться домой «настоящей леди» [Диккенс 2012: 476], но этим надеждам не суждено было сбыться. В диалоге дяди Эмли, мистера Пегготи, с матерью Стирфорта сама миссис Стирфорт объясняет невозможность такого брака: «Это невозможно. Он опозорит себя. Вы должны понять, что она ниже его», «она невежественна и плохо воспитана», «…этот брак невозможен, так как она происходит из простой семьи» [там же: 493–494]. И этот последний аргумент является самым весомым для матери соблазнителя Эмли.
Отказавшись от унизительных предложений Стирфорта выйти замуж «за очень респектабельного человека, который готов был не обращать внимания на прошлое и сам по себе был завидным женихом» [там же: 704] (под «женихом» подразумевался слуга Стирфорта, который принимал активное участие в похищении Эмли из отчего дома), Эмли убежала и, вернувшись в Лондон, наконец, встретилась со своим дядей, который немало странствовал в поисках ее. Нужно сказать, что та же Марта помогла Эмли избежать дальнейшего падения и укрыла в безопасном месте. Новая социализация для героини в данном случае оказалась возможной, но в другой стране: Эмли, мистер Пегготи, Марта и миссис Гаммидж вместе с семьей мистера Микобера вынуждены были эмигрировать в Австралию и начать жизнь с чистого листа. Еще на борту судна Эмли ухаживала за хворыми бедняками и их детьми: «И она была очень занята, делала доброе дело, и это ее спасло» [там же: 904]. Диккенс «не разрешает» совершившей ошибку героине обрести семейное счастье: замуж она так и не вышла, занималась обучением ребят или ухаживала за больными, а также дарила подарки девушкам, которые выходят замуж, «но на свадьбе никогда не бывает» [там же: 905]. Диккенс, как представляется классику уже ХХ в., «разделял все предрассудки своего времени. Он питал, одним словом, отвращение к принятым догмам, то есть, другими словами, предпочитал догмы, принятые на веру…» [Честертон 1982: 139].
В своем социально-психологическом романе Диккенс очень точно изобразил терзания Эмли, которая не только хотела для себя лучшей судьбы, чем быть женой рыбака, но и не смогла противостоять подлинной страсти. Ее соблазнение лишено какого-либо флера таинственности, оно «прорастает как определенная грань реальной жизни» [Проскурнин, Яшенькина 1994: 33]. В романе Ч. Диккенса социальные условия начинают не только вторгаться в жизнь Эмли, но и решать судьбу тех, кто любил ее всей душой.
Судьба «падшей женщины» представлена, как мы видим, в немалом количестве художественных произведений, однако этой проблеме в большинстве из них отводится второстепенная роль. Роман Э. Гаскелл «Руфь» (1853) отличается тем, что посвящен исключительно теме грехопадения женщины, чьими устами заговорили все женщины с разрушенными судьбами. Как писа-тельница-викторианка Гаскелл входит в круг авторов, которые сочувствовали героиням и критиковали политику «двойных стандартов», но ее рассмотрение самой темы можно назвать не только более подробным и последовательным, но и более смелым. Как отмечает исследователь творчества Э. Гаскелл А. Иссон, «…писатель-ница предполагала, что, выбрав для своего романа такой предмет изображения (историю «падшей женщины»), она неизменно вызовет неблагоприятные отзывы и неизбежную критику в свой адрес. …она взяла на себя смелость и открыто проговорила тему отверженных солидным обществом женщин и, что немаловажно, принятые в обществе двойные стандарты нравственного поведения мужчин и женщин» [Easson 1979: 110]8.
Сделав «падшую женщину» центральным персонажем произведения, писательница бросает вызов той самой морали, которая не позволяла не вступившим в брак женщинам «оправиться и начать жизнь с чистого листа»9 [там же: 112]; «общество лицемерно отворачивалось от них, не пытаясь приложить к их спасению ничего, кроме осуждения» [Фирстова 2010: 111]. При этом проблема рассматривается Э. Гаскелл в рамках социального романа с его четким распределением героев не только по социальным группам, но и по моральным установкам. «От реалистов предшествующей эпохи – Дефо, Филдинга, Смоллета – Гаскелл восприняла горячую веру в благостность человеческой природы, стремление объяснить дурные качества своих героев пагубным влиянием общественной среды, полученным в ней воспитанием. Вместе с тем писательница была убеждена в возможности исправления даже самого испорченного человека. Вера в конечное торжество добра объединяла Гаскелл с Диккенсом; общим у этих писателей является стремление показать победу добра над злом в нравственном аспекте» [Проскурнин, Яшенькина 1994: 262]. «Нравственное» в обоих случаях, но у Гас-келл особенно внятно, обозначает «религиозное»: «…пуританское, точнее, протестантское, прежде всего евангелическое начало («жизненное, не книжное христианство», как говорили в викторианские времена), основывающееся на идее напряженного труда и индивидуальной моральной ответственности каждого. Эта установка, – как объясняет Б. М. Проскурнин, – была основой знаменитого викторианского Improvement (усовершенствования)» [Проскур-нин 2005: 40].
Главной героиней романа Элизабет Гаскелл является Руфь Хилтон, чья судьба с самой ранней юности оказалась перечеркнутой из-за любви к недостойному человеку, которого Руфь на протяжении долгого времени считала, безусловно, выше и значительнее себя. Оставшись сиротой, она была определена своим опекуном в обучение швейному делу на пять лет: «Как я выдержу целых пять лет эти ужасные ночи!» [Гаскелл 2013: 14]. Зароненная соблазнителем, в чем-то напоминающим диккенсовского Стирфорта («Единственный сын у матери, и притом рано лишившийся отца, избалованный с детства, он не привык отказывать себе ни в чем» [там же: 37]), иллюзия счастья быстро завлекла героиню. Романтическому сближению героев способствовало счастливое спасение Беллингамом утопающего мальчика, внука старой Нелли Браунсон. Опытный ловелас, 23-летний светский повеса Беллингам не отпускал Руфь, оставив у нее кошелек и обязав заботиться о ребенке: «Мистеру Беллин-гаму ужасно захотелось приручить эту дикарку, как приручал молодых оленей в парке своей матери» [там же: 38]. В отличие от других героинь английских романов, о которых шла речь выше, Руфь ни разу не задумалась о помолвке с Генри Беллингамом. Она руководствовалась не разумом, а новыми чувствами и переживаниями. В своем поведении Руфь инстинктивна, ею движет страсть к своему возлюбленному; в художественном отношении это придает повествованию определенную живость.
В деревенской гостинице Северного Уэльса, куда Беллингам увозит девушку из родного города, решилась судьба Руфи. С этих пор Руфь для общества стала изгоем, а страх и горе – ее постоянными спутниками: «На ее лицо как будто легла тень смерти» [там же: 105]. И только помощь священника мистера Бенсона и мисс Бенсон, осознание христианских ценностей сделали жизнь Руфи и ее сына Леонарда осмысленной. В день крещения сына «Руфь являлась перед алтарем Бога благоговейно, как кающаяся грешница, боясь, что недостойна называться Его дочерью» [там же: 188]. День Леонардовых крестин обозначил новый этап в жизни Руфи, который можно – в тех же религиозных терминах – обозначить как путь от грехопадения к покаянию и служению.
Идея о том, что согрешившая женщина может встать на путь исправления и, возможно, вернуться в общество через любовь к своему, пусть и незаконнорожденному, ребенку и заботу о нем, достаточно четко высказана священником Бенсоном, размышляющим о «священном инстинкте материнства», о том, что женщина, ставшая матерью, приобретает в жизни новую «ответственность», которая будет способствовать ее собственному совершенствованию [Фирстова 2010: 114]. Руфь – характер развивающийся, но динамика характера в романе определяется не только законами реалистического повествования. «“Руфь” является наименее рассудочным из романов. Это история раскаяния и искупления прямо из Евангелия; поведение, такое же, как у Марии Магдалены, умывающей и вытирающей своими волосами стопы Иисуса Христа: пылкое и демонстративное, по существу, “женское” поведение» [Beer 1974: 130]10.
Руфь показана Элизабет Гаскелл на разных этапах ее биографии: от отверженности до восприятия ее обществом практически в качестве святой. «Грех» героини, с точки зрения автора, изначально требует не наказания, а, скорее, осмысления. И Руфи дается возможность стать старше, образованнее, наблюдать за жизнью людей иного круга. В финале романа она получила признание, искупив своими благими деяниями не столько утрату невинности в юности, сколько обман, к которому ей многие годы приходилось прибегать, чтобы вырастить сына. Взаимоотношения человека и общества выходят в произведении на первый план, подчеркивая социальную направленность романа «Руфь». При этом финал произведения кажется неоднозначным: героиня мужественно боролась с эпидемией, помогая тяжелобольным в госпитале, обрела в глазах окружающих ореол святости, а смертельно заразилась, самоотверженно ухаживая за заболевшим любовником из своего прошлого – Беллингамом. Шарлотта Бронте, близкая подруга Элизабет Гаскелл, была однозначно против подобной развязки романа. Она называла Руфь «жертвой, которая не заслужила смерти» [Beer 1974: 125]11.
Э. Гаскелл, представляя в романе причины и последствия поступков Руфи, не отправляет, подобно Диккенсу, отвергнутую обществом героиню в Австралию (как часть британской империи еще сохранявшую, по сути, статус «большой исправительной колонии»). Гаскелл позволила своей героине сделать попытку, пусть и не окончательно, социализироваться в викторианском социуме (ведь когда-то сама писательница хлопотала за юную девушку-швею, ставшую на опасный путь греха [Easson 1979: 112]12), но духовно возвыситься и освободиться от чувства вины перед обществом, построенном на несправедливости. Гораздо более правдоподобной и резко отличающейся от дидактических концовок викторианских романов оказывается в финале судьба Беллингама. Он не только не погибает – волею случая или Провидения, как Стирфорт у Диккенса, – но и не раскаивается, хотя несколько раз встречал на своем пути Руфь и знает, как на ее судьбе отразилась когда-то испытанная любовь к нему.
В отличие от Диккенса и Ш. Бронте, Э. Гас-келл не только принимает «общехристианские ценности» в качестве основы подлинно нравственного поведения, но и показывает поликон-фессиональность викторианской Англии. Дис-сентерский пастор Бенсон принимает участие в судьбе девушки бескорыстно и самоотверженно: «Руфь спасло христианское милосердие мистера Бенсона, который лгал окружающим относительно обстоятельств ее прошлого» [Easson 1979: 112]. В XIX в. протестанты-диссентеры уже не подвергались гонениям за инакомыслие, но и не встречали официальной поддержки, как господствующая англиканская церковь. «Бедняков привлекала сюда (в церковь, где служит Бенсон. – В. В.) любовь к своему пастору и убеждение, что религия, которую он исповедовал, не могла быть неправой» [Гаскелл 2013: 161]. В логике Э. Гаскелл, исповедующей христианство в уни-тарианском варианте, несчастье «падших» лучше понимает та церковь, которая сама испытала несправедливость дискриминации. Доброта мистера и мисс Бенсон оказалась выше всякой социальной этики: благодаря их участию у Руфи и ее незаконнорожденного ребенка появился шанс стать достойными членами английского общества. «Христианские идеи милосердия, прощения, возможности искупления греха и нравственного возрождения для сбившихся с пути позволяют Гаскелл разрешить как нравственный, так и социальный конфликт в романе» [Фирстова 2010: 118].
Библейский мотив грехопадения и его искупления прослеживается в романе отчетливо. В этом смысле Гаскелл строго придерживается взглядов унитарианской церкви на само понятие греха. «Англиканская церковь считает смерть платой за грех и приводит в пример образ Христа, который искупил грехи людей ценою собственной жизни. В литературе персонажи, ведущие неправильный образ жизни, страдают или умирают. Унитарианская церковь выступает за духовное покаяние грешника как стимул для личностного развития» [Tollefson 2011: 48]13. Л. Толлефсон считает смерть Руфи «демонстрацией духовного развития человека, который олицетворяет любовь Христа к людям» [ibid.: 48]. Руфь искупает свой грех терпением, покаянием и духовным самосовершенствованием. «Столь откровенное, эмоциональное выражение религиозной веры согласуется с методами миссис Гаскелл в целом. Формулы и абстракции были чужды ей. Она не могла написать “роман социальной проблемы”, хотя писала про общественные проблемы, и также не могла писать ни о чем, кроме подлинной сущности религии, хотя ее опыт диссентера по рождению и жены диссентера давал ей множество материала для более теоретических умозаключений» [Beer 1974: 130]14.
Наконец, подводя итоги размышлениям писателей и писательниц о «двойных стандартах» в обществе, имеет смысл подчеркнуть, какой вклад тема неблагополучной женской судьбы внесла в развитие литературы XIX в. Роман Э. Гаскелл стал одним из этапов на пути формирования феминистской женской прозы. «…Викторианские писательницы в своих произведениях стремились объективно отразить жизнь современниц, проблемы эмансипации, а также, – справедливо замечает Н. В. Шамина, – показать развитие новых приоритетов и общественных ценностей» [Шамина 2006: 4].
К собственно феминизму в современном значении этого термина не имеют отношения, конечно, ни романы Дж. Остин, ни творчество Э. Гаскелл. Однако развитие феминистской критики в ХХ и XXI вв. привело к появлению работ, которые рассматривают роман Гаскелл «Руфь» с точки зрения феминистской эстетики, как, например, статья М. Лопес «Это феминистский роман: парадокс женской пассивности в романе
Э. Гаскелл “Руфь”» [Lopes 2011: 30–47]. Автор статьи приводит различные точки зрения о «бездеятельности Руфи», «которая переживает и страдает, но редко проявляет инициативу…». Так, Н. Ауэрбах сожалеет о том, что «пассивность Руфи и готовность жертвовать собой уничтожает любое проявление сексуальности с ее стороны» [ibid.: 30]. О. Яффе трактует роман как морализаторское повествование о том, «как женская сексуальность подвергается ограничению и наказанию» [ibid.: 30]. П. Стонман называет женскую сексуальность «деструктивным» элементом в романе «Руфь», а смерть героини становится в таком случае провалом процесса искупления [ibid.: 30]15. Подобные трактовки образа Руфи придают современность произведению, хотя, безусловно, вступают в противоречие с нормами викторианской морали и религиозностью самой Гаскелл.
Обращаясь к теме женского «грехопадения», английские романисты XVIII–XIX вв., как показывает анализ, не стремились радикально уйти от сложившихся представлений о моральном и аморальном. Настоящей заслугой их творчества является в данном случае неразрывность рассмотрения социальной и нравственной проблематики, христианских норм, которые на раннем этапе осмысления прав женщин помогают сделать акцент на духовной составляющей свободы личности. А «милость к падшим» [Пушкин 1975: 389], призываемая и проявляемая самими писателями, начиная с Г. Филдинга и до Э. Гаскелл, делает особенно трогательной тему неблагополучной женской судьбы в английских романах.
Список литературы «И милость к падшим призывал...»: тема женского грехопадения в английском романе XVIII-XIX вв
- Гаскелл Э. Руфь/пер. с англ. А. Степанова. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. 480 с
- Диккенс Ч. Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим/пер. с англ. А. Кривцовой, Е. Ланна. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. 928 с
- Кагарлицкий Ю. Великий роман и его создатель//Фильдинг Г. История Тома Джонса, найденыша. Сер. 1. Т. 62. М.: Худож. лит. 1973. 880 c
- Остин Дж. Чувство и чувствительность/пер. с англ. И. Гуровой. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. 384 c
- Палий А. А. Основные черты поэтики Джейн Остин и ценностные характеристики ее произведений. Омск: Изд-во ОмГУ, 2003. 212 с
- Проскурнин Б. М. Идеи времени и зрелые романы Джордж Элиот. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2005. 144 с
- Проскурнин Б. М., Яшенькина Р. Ф. Из истории зарубежной литературы 1830-х -1870-х годов: Английские реалисты XIX века (Ч. Диккенс, У. М. Теккерей, Ш. Бронте): текст лекций/Перм. гос. ун-т. Пермь, 1994. 150 с
- Пушкин А. С. Стихотворения и поэмы. М.: Сов. Россия, 1975. 623 с
- Сидорченко Л. В. История западноевропейской литературы. XIX век: Англия: учеб. пособие для студ. филол. ф-тов высш. учеб. заведений/под ред. Л. В. Сидорченко, И. И. Буровой, А. А. Аствацатурова и др. СПб.: Филол. фак-т СПбГУ; М.: Изд. центр «Академия», 2004. 541 с
- Соловьева Н. А. Англия XVIII века: разум и чувство в художественном сознании эпохи. М.: Формула права, 2008. 272 с
- Фильдинг Г. История Тома Джонса, найденыша/пер. с англ. А. Франковского. М.: Худож. лит., 1973. 880 c
- Фирстова М. Ю. Идея духовного самосовершенствования в художественной структуре романа Элизабет Гаскелл «Руфь»//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 4(10). C. 111-119
- Честертон Г. К. Чарльз Диккенс/пер. с англ. Н. Трауберг. М.: Радуга, 1982. 205 с
- Шамина Н. В. Женская проблематика в викторианском романе 1840-1870-х гг.: автореф. дис. … канд. филол. наук. Казань, 2006. 23 с
- Allen W. The English Novel. A short critical history. N.Y.: E.P. Dutton & Co., 1954. 456 p
- Barickman R., MacDonald S., Stark M. Corrupt Relations: Dickens, Thackeray, Trollope, Collins and the Victorian Sexual System. N.Y.: Columbia University Press, 1982. 285 p
- Beer P. «Reader, I married him»: A study of the Women Characters of Jane Austen, Charlotte Bronte, Elizabeth Gaskell and George Eliot/Beer P. S. 1.: The Macmillan Press LTD, 1974. 213 p
- Cunningham G. The New Woman and the Victorian Novel. L.: Macmillan Press, 1978. 172 p
- Easson A. Elizabeth Gaskell. London etc.: Routledge & Kegan Paul, 1979. 278 p
- Harrison J. F. C. The Early Victorians, 1832-1851. St. Albans: Panther, 1973. 224 p
- Kirkham M. Jane Austen, Feminism and Fiction. Sussex: The Harvester Press; New Jersey: Barnes and Noble Books, 1983. 187 p
- Lopes M. This is a Feminist Novel: The Paradox of Female Passivity in Elizabeth Gaskell's Ruth//The Gaskell Journal: Journal of the Gaskell Society. 2011. №25. P. 30-47
- Tollefson L. «Controlled Transgression»: Ruth's Death and the Unitarian Concept of Sin//The Gaskell Journal: Journal of the Gaskell Society. 2011. №25. P. 48-62