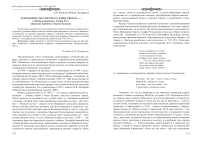«И примешь ты смерть от коня своего...» («Метценгерштейн» Эдгара По и «Красный жеребец» Георгия Чулкова)
Автор: Федута Александр Иосифович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Прочтения
Статья в выпуске: 3 (26), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается использование российским писателем-символистом Георгием Чулковым образа коня как символа революционного насилия. Обращается внимание на сходство трактовки образа в новеллах Чулкова и американского романтика Эдгара По. Новелла Чулкова «Красный жеребец» вписывается в общий контекст темы революции в творчестве символистов 1910-20-х гг.
Эдгар по, георгий чулков, романтизм, новелла, революция, символизм, символический анархизм, компаративистика, интертекстуальность
Короткий адрес: https://sciup.org/14914397
IDR: 14914397
Текст научной статьи «И примешь ты смерть от коня своего...» («Метценгерштейн» Эдгара По и «Красный жеребец» Георгия Чулкова)
Революционная эпоха по-разному актуализирует классические образы, начиная от христианских (вспомним «терновый венок революций» В.В. Маяковского или блоковского Христа, незримо идущего впереди дежурного патруля) и до значительно более поздних, но также наполненных потенциалом возможных толкований.
В 1994 г. впервые по рукописи был опубликован (а в 1999 г. репу-бликован) рассказ известного русского литератора Серебряного века Георгия Ивановича Чулкова (1879-1939) «Красный жеребец», созданный, по мнению комментатора, в первой половине 1920-х гг.1 При жизни автора он не публиковался, что объясняется, на наш взгляд, вполне реалистическим описанием революции в русской деревне, уже не приемлемым для советской литературы: напомним, что и написанная в 1923 г. повесть В.Я. Зазубрина «Щепка» была опубликована только в 1989 г.
Фабула рассказа проста. В 1905 г. - год начала первой русской революции - умирает барин Степан Булатов, владелец конского завода. Перед смертью он прощается не с семьей даже, а с любимым жеребцом Султаном, который ведет себя совершенно пристойно случаю - как человек: «- Милый! Сынок! - сказал Степан Федорович, когда конь, фыркнув, мотнул головой, как будто кланяясь, как будто прощаясь с хозяином»2 (далее ссылки на текст рассказа даются непосредственно в тексте, в круглых скобках после цитаты с указанием страницы). Наследницами имения Булатова становятся его вдова и дочь, которым через четырнадцать лет - срок указан автором точно, то есть события рассказа отнесены к 1919 г. - под давлением крестьян приходится покинуть имение. Разграбив барский дом и надругавшись над жестоким управляющим, крестьяне добираются до конюшни. И поскольку наследник Султана, племенной жеребец Султан III, становится камнем преткновения, погромщики решают попросту убить
его - сжечь, чтобы не доставался он никому. Султана обвязывают паклей, поджигают ее, и горящий конь покидает разграбленное барское имение -скачет, подстегиваемый болью и страхом, вперед, к неумолимой и неизбежной смерти.
Рассказ Чулкова буквально пронизан цитатами и реминисценциями из русской классической литературы (сразу оговоримся, что тема «всадников Апокалипсиса» не является предметом рассмотрения в настоящей работе). Премудрая старуха, Агафья Родионовна (отсылка к образу пушкинской няне - напомним, что Г.И. Чулков был биографом Пушкина), пытаясь растолковать причины напастей, обрушившихся на крестьян, обещает, что «придут с Востока косоглазые и все разъяснят» (с. 592-593). Читателю-современнику очевидна отсылка к стихотворению В.С. Соловьева «Пан-монголизм»:
От вод малайских до Алтая Вожди с восточных островов У стен поникшего Китая Собрали тьмы своих полков. <.. .> О Русь! забудь былую славу: Орел двуглавый сокрушен, И желтым детям на забаву Даны клочки твоих знамен3 - и к навеянному соловьевскими строками классическому блоковскому:
Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, Скифы - мы! Да, азиаты - мы, -С раскосыми и жадными очами4.
Очевидно, что эта все видевшая и все знающая чулковская старуха вызывает в памяти странницу Феклушу из драмы А.Н. Островского «Гроза» (имеем в виду монолог Феклуши о «последних временах» в первой сцене третьего действия «Грозы»5), точно так же, как ее внешность - «шестидесятилетняя, плешивая, все как будто приплясывала, рыжими глазенками впивалась в собеседника» (с. 592) - отчасти позаимствована у старухи-процентщицы из «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского: «Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая»6. И далее: «Светлые, с проседью, жиденькие волосы ее, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребенки...»7. В рассуждениях повествователя в «Красном жеребце» в какой-то момент начинают звучать ернические интонации Федора Павловича Карамазова: «Ведь все мы люди - как псы смердящие.
А духовной трапезы нету - крох-то и негде подобрать. Монахи, что ходят по морю, как по суше, далече - где их достать» (с. 593). Налицо отсылка к обмену репликами Смердякова - «... никто в наше время, не только вы-с, но и решительно никто, начиная даже с самых высоких лиц до самого последнего мужика-с, не может спихнуть горы в море, кроме разве какого-нибудь одного человека на всей земле, много двух, да и то, может, где-нибудь там, в пещере египетской в секрете спасаются, так что их и не найдешь вовсе...» - и Федора Павловича - «... так двух-то таких, что горы могут сдвигать, ты все-таки полагаешь, что есть они? Иван, заруби черту, запиши: весь русский человек тут сказался!»8 (с. 593).
С особой жестокостью достается у Чулкова героям «Что делать?» Н.Г. Чернышевского и родившейся не без влияния его теорий проповеди женского равноправия А.М. Коллонтай: «Говорят, потом завелась особая порода людей. Это так называемые сознательные. У этих все было точно и ясно. И они все понимали. Гром ли грянет, они сейчас об электричестве что-нибудь скажут умное; умрет ли кто, они сейчас спешат разрезать мертвецу живот и, посолив внутренности, посмотреть, что у него там такое в животе; изменит ли баба мужу, сейчас они ей объяснят, что это ничего, что с нее не взыщется, ибо она трудовая пчела, а не какая-нибудь дармоедка-буржуйка». Ср. у Чернышевского: «Таких людей, как Рахметов, мало: я встретил до сих пор только семь-восемь образцов этой породы <.. > Сходства не было ни в чем, кроме одной черты, но она одна уже соединяла их в одну породу и отделяла от всех остальных людей»9 (с. 593) - и у Коллонтай: «’’Закрепление” женщины за домом, выдвиганье на первый план интересов семьи, распространение прав безраздельной собственности одного супруга над другим - все это явления, нарушающие основной принцип идеологии рабочего класса - “товарищеской солидарности”, разрывающие цепь классовой сплоченности. Понятие собственности одной личности над другой, представление о “подчинении” и “неравенстве” членов одного и того же класса противоречит самой сущности основного пролетарского принципа - “товарищества”»10. (Непосредственно же в тексте рассказа Чулкова очевидна отсылка к названию книги А.М. Коллонтай «Любовь пчел трудовых» - М., 1923). Ну, и, наконец, угроза побежденного в споре барского заступника Кассиана-огородника (имя не случайно: святому Касьяну посвящен день 29 февраля, бывающий, как известно, раз в четыре года) кузнецу Трифону, настаивающему на погроме - пушкинское почти «Ужо тебе!»11 (с. 595) - легко вписывает «революционный» текст ГН. Чулкова в общероссийский литературный контекст: революционное насилие, как и государственное насилие вообще, постоянно берет верх над попытками индивидуума добиться гуманного отношения к слабейшему человеку.
Однако в целом сюжет Чулковского рассказа очевидно ориентирован на память современного ему читателя о другом тексте - тексте мистическом и загадочном. Речь идет о новелле великого американского писателя
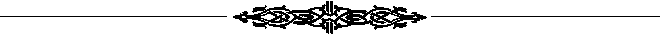
Эдгара Аллана По «Метценгерштейн», впервые опубликованной в 1832 г. и переведенной на русский язык в 1884 г.
Место действия новеллы - Венгрия. Юный барон Фредерик Метценгерштейн отличался редкостным злонравием и, в конце концов, «переи-родил самого царя Ирода»12: по слухам, именно он отдал приказ поджечь имение соседа, графа Вильгельма Берлифитцинга. (Далее ссылки на новеллу см. в тексте после цитаты в круглых скобках с указанием страницы). Немощный граф погибает в языках пламени, пытаясь выпустить лошадей из горящей конюшни, однако дух его переселяется вначале в «огромного коня диковинной масти» (с. 9), вытканного на старинном гобелене, изображающем гибель предка Берлифитцинга от рук предка Метценгерштейна, а затем и в реального коня «огненно-рыжей масти» (с. 10). После этого вся жизнь молодого барона сводится к попыткам преодолеть страх, овладевающий им в момент скачки на странном коне. И, в конце концов, Фредерик Метценгерштейн погибает, когда не подчинившийся ему конь вносит его в его собственный пылающий замок, чтобы сгинуть «вместе с всадником в огненном смерче» (с. 13).
Трудно отрицать несомненное сходство между рассказом Георгия Чулкова и новеллой Эдгара По. Мы не знаем наверняка, был ли Чулков знаком с «Метценгерштейном», но тот факт, что он следил за публикациями переводов американского романтика на русский язык, был поклонником и пропагандистом творчества По, а также прослеживал его влияние на современных российских писателей, бесспорен. В частности, по его мнению, «одним из тех гениальных поэтов, которые указали новые пути для творчества, взорвали скалы и открыли за ними новые дали, был Эдгар По. Мелодии, им найденные, разрабатывались и разрабатываются во всемирной литературе целым рядом художников. Эти торжественные повторения образов и заклинаний, эти гипнотизирующие эпитеты, властные слова и стремительный ужас смыкающихся фраз, которые входят одна в другую, как звенья цепи, все это увлекает многих из нас. Одним из наиболее талантливых подражателей Эдгара По нужно признать Леонида Андреева»13. В обоих текстах - и у По, и у Чулкова - действие начинается расставанием с жизнью хозяина коня и переселением его души в четвероногого любимца - с той разницей, разумеется, что для По это переселение (в художественном мире его новеллы) является несомненным фактом, а Чулков попросту не акцентирует на этом внимания - для него важно иное: красный конь становится символом старой, помещичьей России, скончавшейся вместе с барином Булатовым в 1905 г. При этом кони и люди для современников Г.И. Чулкова уравниваются в смерти еще и потому, что де факто их уравняла Первая мировая война. Вместимость вагонов, идущих на фронт, как известно, определялась численностью размещающихся в них согласно нормам людей и лошадей. А.А. Блок писал: «Люди - крошечные, земля - громадная. Это вздор, что мировая война так заметна: довольно ма- ленького клочка земли, опушки леса, одной полянки, чтобы уложить сотни трупов людских и лошадиных. А сколько их можно свалить в небольшую яму, которую скоро затянет трава или запорошит снег!»14.
Однако кроме этого сходства между текстами русского анархическо го символиста и американского романтика есть и еще одно немаловажное обстоятельство. Дело в том, что история красного коня Султана у Чулкова становится своего рода продолжением истории огненно-рыжего коня из новеллы По.
Что изображает в своей новелле По? Крушение разбойного мира Метценгерштейнов и Берлифитцингов - мира, в котором существуют преступления без наказания. Конь, в которого вселяется душа графа Вильгельма, - жертва Метценгерштейна - одновременно становится его убийцей, потому что иначе не восстановить высшую справедливость, предусмотренную старинным преданием.
У Чулкова жестокий и беспощадный разбой, учиненный мужиками, становится выражением этой высшей справедливости - можно сказать, что Чулков иллюстрирует тезисы из уже процитированной нами статьи А.А. Блока «Интеллигенция и революция» (1918):
«Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? - Потому, что там на-силовали и пороли девок: не у того барина, теку соседа.
Почему валят столетние парки? - Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему - мошной, а дураку - образованностью.
Все так.
Я знаю, что говорю. Конем этого не объедешь. Замалчивать этого нет возможности; а все, однако, замалчивают.
Я не сомневаюсь ни в чьем личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое - отвечаем мы? Мы - звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? - Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать “лучшие”» 15.
(В приведенной цитате обращают на себя внимание два момента. Первый - очевидно не случайный: пассаж Блока о насилии над девками в «любезных сердцу барских усадьбах» совпадает с микросюжетом о судьбе насильника-управляющего в рассказе Чулкова. И второй - быть может, случайный: Блок упоминает коня , которым прошлое не объедешь.) Неслучайно сами мужики не хотят насилия над теми, кто у них самих с насилием не ассоциируется, - они просят женщин, вдову и дочь Булатова, добровольно покинуть обреченное имение:
«Вы уж уважьте нас. Степан Федорович, покойный, царство ему небесное, хороший был человек. <...> Да вот мир порешил, значит, землицу вашу поделить и все прочее, так чтобы вам покойнее было, просим вас уехать сегодня в город - и молодую барыню тоже» (с. 596-597).
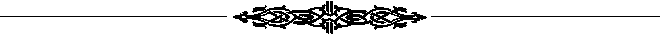
И Марья Николаевна с Наташей соглашаются «уважить» просителей, признавая в данном случае за ними отнюдь не только право силы, но и нечто большее. Это, кстати, привносит в авторскую интонацию Чулкова серьезность, которая, на наш взгляд, отнюдь не свойственна новелле Эдгара По. Исследователями уже отмечалось: «Одни видят в “Метценгерштейне” пародию на рассказы “немецком духе”, другие утверждают, что автор, задумав его как пародию, отошел от первоначального замысла и написал серьезный рассказ»16. В отношении к рассказу Г.И. Чулкова таких расхождений, на наш взгляд, быть не может: По создает некоторую идейную конструкцию, Чулков пишет о том, что могло иметь место в реальности. Именно поэтому ирония в его повествовании не присутствует.
Конь диковинной окраски, огненно-рыжий, как пламя революции, вносит своего убийцу в его горящее и рушащееся имение - у Эдгара По. Конь, рыжий, в отличие от новеллы По, не из адской бездны - из барской конюшни, хорошего завода конь, Султан III, подожженный мстителями-мужиками, несется из горящего и рушащегося мира барских имений - у Георгия Чулкова.
Всюду пламя. Всюду смерть. В каком бы направлении ни мчался охваченный пламенем жеребец.
«Мистический анархизм» Георгия Чулкова в его рассказе оказывается синтезом мистицизма американского романтика и анархией революционной борьбы - борьбы сродни той буре, которую предрекала и призывала русская интеллигенция.
Показательно, что в 1912 г. появляется одно из самых знаменитых живописных полотен предреволюционной эпохи - «Купание красного коня» КС. Петрова-Водкина, в котором неведомое будущее также связано с образом коня диковинной масти (истоки этого образа в творчестве художника в данной статье мы не рассматриваем). Мальчик, сидящий на коне, ничего не предчувствует, его спокойствие сродни сну. Но косящий глаз коня показывает, что он - не спокоен. Он - чувствует.
Это очень точно заметил Рюрик Ивнев в стихотворении, посланном КС. Петрову-Водкину под впечатлением от выставленной картины:
Кроваво-красный конь, к волнам морским стремящийся, С истомным юношей на выпуклой спине Ты, как немой огонь, вокруг костра клубящийся, О многом знаешь ты, о многом шепчешь мне.
Зрачки расширились... 17.
Что чувствует? Возможно, языки пламени, в котором погибнет он сам, и сидящий на его спине подросток, и весь мир. Как пророчески писал Александр Блок,
И вечный бой! Покой нам только снится Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица И мнет ковыль...18
С небольшой разницей. И кобылица не степная, а, стало быть, не свободная, и полет ее оставляет след не только на мятом ковыле, но и на человеческих жизнях.
Автор искренне благодарен профессору РГГУ Д.М. Магомедовой за ценные замечания, высказанные ею в процессе работы над данным текстом.
Список литературы «И примешь ты смерть от коня своего...» («Метценгерштейн» Эдгара По и «Красный жеребец» Георгия Чулкова)
- Михайлова М.В. Комментарии//Чулков Г.И. Годы странствий. М., 1999. С. 795
- Чулков Г.И. Красный жеребец//Чулков Г.И. Годы странствий. М., 1999. С. 590
- Соловьев В.С. Панмонголизм//Соловьев В.С. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 104
- Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 5. М., 1999. С. 77
- Островский А.Н. Гроза//Островский А.Н. Полное собрание сочинений: В 12 т. Т. 2. М., 1974. С. 236-237
- Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. М., 1970. С. 10
- Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы//Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 14. Л., 1976. С. 120
- Чернышевский Н.Г. Что делать? Из рассказов о новых людях. Л., 1975. С. 202
- Коллонтай А.М. Новая мораль и рабочий класс. М., 1919. С. 60
- Пушкин А.С. Медный всадник. Петербургская повесть//Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 5. М.; Л., 1948. С. 148
- По Э.А. Метценгерштейн//По Э.А. Полное собрание рассказов. М., 1970. С. 8
- Чулков Г.И. Третий «Сборник» товарищества «Знание» за 1904 г. СПб. 1905 г. Ц. 1 руб.//Вопросы жизни. 1905. № 1. С. 303
- Блок А.А. Интеллигенция и революция//Блок А.А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4. Л., 1982. С. 230
- Блок А.А. Интеллигенция и революция//Блок А.А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4. Л., 1982. С. 235
- Осипова Э.Ф. Ральф Эмерсон и американский романтизм. СПб, 2001. С. 85-86
- Петров-Водкин К.С. Письма. Статьи. Выступления. Документы. М., 1991. С. 158
- Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 3. М., 1997. С. 170