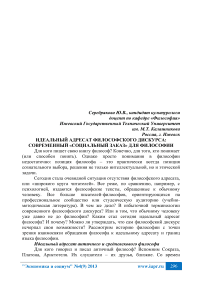Идеальный адресат философского дискурса: современный «социальный заказ» для философии
Автор: Серебрякова Ю.В.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 4-3 (9), 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140106366
IDR: 140106366
Текст статьи Идеальный адресат философского дискурса: современный «социальный заказ» для философии
Для кого говорил и писал античный философ? Вспомним Сократа, Платона, Аристотеля. Их слушатели – их друзья, близкие. Со времен
Античности и до сегодня философы обращались также и к своим ученикам (что в принципе нормально для хорошей научной школы). Даже противники Сократа, приходившие победить его в споре, почти все разделяли в итоге его позицию, потому что признавали ее правильной. Другими словами, собеседники Сократа, Платона, Аристотеля – их единомышленники. Чтобы понять античного философа, нужно было научиться думать, как он, и искать трудные причины и цели в размышлениях. Трудными признавались цели, далекие от непосредственного практического применения и обладающие абстрактным характером (размышления о том, что есть добро, зло, справедливость, красота, государство и т.д.).
Философ, обращаясь к своим собеседникам, рисковал быть неправильно понятым (отрицающим традиционный стиль жизни, основанный на ритуалах и обрядах), однако философов «спасала» упорядоченность и точность их размышлений. Этот порядок был систематичным и представлял собой рациональное объяснение окружающего мира, что имело следствием обоснованность того или иного этического выбора. Характерным обращением этого периода было: «Мои друзья!» [1]. В эпоху Античности как такового «социального заказа» для философского дискурса не было, однако были реальные его адресаты.
Неслучайно именно в эпоху Средневековья появляется такой жанр литературы, как автобиография: монах, пишущий «от первого лица», передавал людям свой собственный, личный опыт общения с Богом, рассказывал, как изменилась его жизнь после обращения к Нему [2; 3].
Итак, мы видим по крайней мере две большие и разнородные группы адресатов философа – «внешний круг» (оппоненты, люди, думающие несистематически или подверженные увлечению эмоциями, а также люди, не знакомые с учением этого философа) и «внутренний круг» (ученики, друзья, близкие, единомышленники). Характерно, что, к примеру, Аристотель практиковал два «режима» общения: утром он разъяснял свой метод новичкам, вечером занимался с постоянными учениками. Сами же ученики должны были научиться выражать свои мысли точно, аргументировано, с использованием различных риторических приемов, с учетом противоположной позиции, т.е. разумно.
В Средние века «социальный заказ» для философа появился. Он поддерживался и со стороны адресатов (читателей) философских (теологических) текстов.
Адресат философа в эпоху Нового времени и Просвещения
В отличие от Возрождения, еще знавшего опыт «неразумного Разума и разумного Неразумия» [4], классическая эпоха их разделяет и отграничивает. Теперь разум обретает абсолютную автономию: он становится единственной формой истины. Неразумие превращается в безумие, т.е. из субъекта (возможной) истины оно становится ее объектом.
Истина классической эпохи оформляется операцией исключения безумия. Первый шаг к этому подавлению был сделан еще в эпоху Возрождения, когда были противопоставлены «бесконечное безмолвие образов» (Босх, Брейгель, Дирк Боутс, Дюрер) и нравственная речь («Похвала глупости» Э. Роттердамского, разоблачающая глупость с точки зрения философа).
С другой стороны, неразумие может еще означать и воображение, воображаемое. Когда философы пишут об истине разума, противопоставляя ее, например, магии (Ф. Бэкон), они отграничивают сферу разума и воображения, и признают только работу разума правильной в поиске истины. Теперь все меняется. Ни мистический, ни религиозный опыт уже не имеет такого значения, как рациональный. Безусловно, плоды рационализма появились довольно скоро, и в первую очередь, в сфере техники и технологий. Однако начиная с эпохи Просвещения все, что не объяснялось разумом, последовательно выводилось за пределы нормы, а затем и за пределы общественной жизни (изоляция, репрессии). Теперь философ должен обращаться только к тем, кто обладает разумом. Так появляются первые границы философского дискурса: ведь неразумными (воображающими), с точки зрения нормального (разумного) философа являются и художники, и женщины (с их «недалеким» умом и «женской логикой»), и дети. И если дети вырастают в правильно образованных разумных граждан, а с женщинами уж как-нибудь можно справиться, то представители искусства, художники, «работают» с образами, значит, их фантазия переходит границы разумности.
Адресат философа-романтика и иррационалиста
Шаг назад (в сторону освоения пространства воображаемого) был предпринят философами-романтиками. Для них разумность была «пережитком прошлого» в том смысле, что не объясняла привлекательность образа общества свободных и равноправных. Скорее наоборот, разумность объясняла иерархичность и зависимость одних групп сообщества от других. В этом жестко структурированном мире не оставалось уже места мечте, подвигу, свободному, спонтанному чувству. Неудивительно, что философы-романтики обращались к молодым: именно им предстояло изменить существующий порядок вещей, перейти от иерархичности отношений к их открытости.
Однако довольно скоро автор «Книги для всех и ни для кого» неоромантик Ф. Ницше намеренно и сознательно дистанцируется от своего возможного читателя: он не только вне социальной критики, но и вне «социального заказа». Он пишет для тех, у кого есть свое собственное мнение.
Адресат советского марксиста
В XXв. советские марксисты определенно имели «социальный заказ», однако, как ни парадоксально, не имели реального адресата. Все, что говорилось «по указанию партии», не было новостью и настоящей философской работой. По сути, вместо философии в нашей стране была идеологическая пропаганда. Возможно, старшее поколение современных читателей, помня те времена, до сих пор отождествляют философию с демагогией.
Адресат современного философа
Академический характер современного философского дискурса не прибавляет ему популярности. Внутри самого этого дискурса наметилась линия «разрыва» с читателем. Например, анализируя особенности философского текста, А.П. Алексеев справедливо указывает на его аргументационную сложность и радикальную очищенность от образов [5]. И в этой сложной аргументации современные философы могут заходить «слишком далеко» - примером тому могут быть как тексты Ф. Гиренка [6], называющего разум «прививкой безумию», так и его ученика А. Нилогова, развивающего философию антиязыка, философию, принципиально не ищущую адресата.
Очевидно, такие способы философствования не только не «приведут» адресата (читателя) философу. Адресат философского текста – узкий круг специалистов – отменяет само понятие «социального заказа». Теперь философия – личное дело конкретного увлеченного философа. Для современного философа возможны два выхода: или писать текст «на грани» разума и воображения (вариант Ф. Гиренка), или критиковать политический дискурс (С. Жижек, Д. Агамбен).