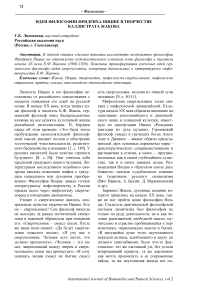Идеи философии Фридриха Ницше в творчестве Каллистрата Жакова
Автор: Лисовская Г.К.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 2 (2), 2016 года.
Бесплатный доступ
В данной статье сделана попытка исследовать воздействие философии Фридриха Ницше на становление художественного сознания коми философа и писателя начала ХХ века К.Ф. Жакова (1866-1926). Показана трансформация ключевых идей германского философа (идея сверхчеловека, концепция дионисизма) в литературном мифотворчестве К.Ф. Жакова.
Жаков, ницше, творчество, мифологема сверхчеловека, мифологема странника, притча, сказка, аполлонийско-дионисийские оппозиции
Короткий адрес: https://sciup.org/170184298
IDR: 170184298
Текст научной статьи Идеи философии Фридриха Ницше в творчестве Каллистрата Жакова
Личность Ницше и его философия неотделимы от российского самосознания с момента появления его идей на русской почве. В начале ХХ века, когда творил коми философ и писатель К.Ф. Жаков, германский философ имел беспрецедентное влияние на все аспекты культурной жизни российской интеллигенции. Н. Бердяев писал об этом времени: «Это была эпоха пробуждения самостоятельной философской мысли, расцвет поэзии и обострение эстетической чувствительности, религиозного беспокойства и искания» [1, с. 149]. У русских писателей было чувство «тревоги будущего» [8, с. 20]. Они считали себя предтечей грядущего нового человека. Литературным последствием подобного синдрома явилось появление мифов о грядущем социальном или духовном преображении. Философия Ницше давала толчок литературному мифотворчеству в России прежде всего через мифологему сверхчеловека и концепцию дионисизма.
Учение о сверхчеловеке явилось центральным пунктом творчества Ницше. Кто он – сверхчеловек? Сам философ никогда не выходил за рамки поэтической символики и знаковой образности при описании его: «Сверхчеловек – смысл земли. Пусть же ваша воля скажет: «Да будет сверхчеловек смыслом земли»; «Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно преодолеть»; «Человек – это канат, закрепленный между зверем и сверхчеловеком, канат над пропастью»; «Я хочу показать людям смысл их бытия; смысл есть сверхчеловек, молния из тёмной тучи человека» [9, с. 10-11].
Мифологема сверхчеловека тесно связана с мифологемой дионисийской. Культура начала ХХ века обратила внимание на оппозицию аполлонийского и дионисийского начал в эллинской культуре, известную по диссертации Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Германский философ увидел в греческих богах Аполлоне и Дионисе – живые образы представителей двух основных первоначал мира – аристократического совершенствования и растворения в стихии, в хаосе, – противоположных как в своем глубочайшем существе, так и в своих высших целях. Размышления Ницше о «братском союзе двух божеств» оказали судьбоносное влияние на теоретиков русского символизма (Вяч. Иванов, А. Белый, Д. Мережковский и др.).
Зырянин Жаков, духовные искания которого пришлись на начало ХХ века, также не мог пройти мимо философии Ницше. Создатель оригинальной философской системы лимитизма был философом не только по роду деятельности, но и как человек раскованной, свободной мысли, мучительно и страстно пробивавшейся к пер-воистокам, первоначалам мысли и бытия. «В мятущейся душе этого неугомонного искателя истины, влюбленного в науку до полного самозабвения, было что-то фаустовское: тот же пытливый ум, без устали вопрошавший природу, та же дерзновенная мечта проникнуть в ее сокровенные тайны, та же неутомимая жажда все по- знать, все изведать, то же отчаяние в ценности нации, та же мировая скорбь и томление мятежного духа по «горним мирам». Проклятые вопросы не были для Каллист-рата Фалалеевича «сухими академическими проблемами»: он болел ими, скорбел о них всем сердцем, переживая мировую трагедию, как личную потрясающую драму», – так писал в 1926 году в статье «Зырянский подвижник науки» С.О. Гру-зенберг [3, с. 485]. Очень немногочисленна плеяда мыслителей, которых влекут непроницаемые бездны души человеческой, иррациональные глубины жизни. И Ницше и Жаков из их числа.
Жакова роднит с германским философом стиль мышления, стремление мыслить вне скованности готовыми формулами, отрицание сухого схематизма и самодовольной цеховой учёности. Их мысль лирическая, их размышления окрашены сугубо личными, интимными переживаниями. Здесь есть человеческая подлинность – это первое, что объединяет двух философов. «Лирическим аутсайдером» называют исследователи Ф. Ницше [10, с. 182], но таким же аутсайдером и маргиналом от философии до конца жизни оставался и зырянский философ.
Для обоих философов характерна эмоциональная напряженность стиля, персонификация идей, обращение к прошлому как перспективе будущего. Жаков, как и Ницше, пишет не для современников, а для будущего. «Напрасно говорят мне друзья, чтобы спокойно писал я, чтобы озирая литературные произведения, примерялся к вкусам современников....Я не могу слушать современников, ибо не знаю, что будет ценить потомство: литературу или правду, а ведь всякий пишет преимущественно для потомства... » [7, с. 150].
Жаков убежден, что без художественной фантазии, без захватывающего всего человека творческого импульса нет ни философии, ни жизни. «Ученые постигают лишь скелет жизни, а всемирный сказочник, странник неба и земли, – он видит, и слышит и знает великое, нежное творчество природы и предчувствует намерения Бога!» – пишет он в рассказе «Миликар и Леонелла» [6, с. 222]. Лишь творчество способно спасти человека, полагает Жаков, оно выше жизни: «Человек свободен, ибо в нем энергия – воля – идея, творческое начало», творчество – это «преодоление «трагедии познания» мечтою» [7, с. 106].
Писатель использует открытия Ницше для выражения философских идей через миф, притчу. «Кто пишет кровью и притчами, тот хочет, чтобы его не читали, а заучивали наизусть», «в горах кратчайший путь – с вершины на вершину… притчи – те же вершины…», писал Ницше в книге «Так говорил Заратустра» [9, с. 39, 24]. Романтическая эстетика работы немецкого философа нашла творческое преломление в новеллистике писателя – рассказах «Жизнь Пама Бур-Морта» (1905), «Ей Морт Мили-Кили» (1909), «Тогай» (1910), «Беженада-Вирси Угро» (1911), «Золотая сказка» (1911), «Сказка серебряная» (1911) и др., а также в его итоговом произведении – романе «Сквозь строй жизни» (19121914) через обращение к проблемам личности, в том числе к избраннической миссии отдельной личности. Главное, что рождает творчество, по мнению Жакова, – «идею сильной личности, превозмогающей все преграды», «стойкость личности, самобытность и самоцветность воспою я в сказках своих, человека нового», «сильные люди в моих повестях странствуют по земле и ищут смысла жизни» [7, с. 109, 110, 193]. Жаков согласен с утверждением Ницше, что «человек есть нечто, что должно преодолеть» [9, с. 41]. Стремлением к идеальному человеку, свободному от пороков цивилизованного общества, объясняется мечта немецкого мыслителя сверхчеловеке, и она подхватывается Жаковым: «Идите все к сверхчеловеку, и мы преодолеем «недуги мира» [6, с. 105]. Жаков, как и за Ницше («люди измельчали и мельчают еще больше») [9, с. 145], пишет о слабости, лживости, никчемности цивилизованных народов (рассказы «Тогай», «Беженада-Вирси-Угро»). Этим людям противостоит сильная, яркая личность, не испорченная цивилизацией. Однако трактовка личности отличается от той индивидуалистической, которую проповедует автор «Заратустры».
«Жить собственным я, чему учит ницшеанство, и что вытекает из неокантианства, русский герой не может…», – утверждает писатель в статье о Л. Андрееве [5, с. 19]. Если для притчи главное – душевные переломы, связанные с этическим выбором, то герои Жакова делают выбор в пользу единства с другими людьми. В притче «Золотая сказка» одинокий человек, восходящий на гору (любимая символика Ницше – Г.Л.), преодолевая трудности, обретает небесную мудрость и возвращается к людям. Гордый и нелюдимый человек из притчи «Сказка серебряная», испытав множество соблазнов – властью, славой, богатством, понял, что все это тяжести мира, и что нет ничего прекраснее, чем жить рядом с простыми людьми, трудиться и любить. Обретя мудрость земную и небесную, вернулся к людям в родные места Пам Бур-Морт из рассказа «Жизнь Пама Бур-Морта» и стал добрым пастырем для своего народа. Для Жакова избранная личность – это человек, который призван к великому труду во имя людей. В космогоническом мифе «Ен и Омöль» (1910) он показывает появление совершенного человека как итог всего развития планеты, смысл земли, а когда ушел совершенный человек, земля поблекла, «она уже исполнила свое предназначение» [6, с. 195].
Вслед за Ницше несовершенство человека и несовершенство мира, а также возможность их преодоления, коми философ выводит из аполлонийско-дионисийских оппозиций как противоположных начал в жизни и культуре. На страницах его работ не раз появляется их осмысление. Для исторического развития России характерна циклическая смена эпох, смена культур, «ритм общий для всех народов, – колебания между двумя полюсами – поэзией Аполлона – светозарной, оптимистической и поэзией Диониса – мрачной, пессимистичной… Теперь (1911 год – Г.Л.) мы находимся на низшей волне», – говорит Жаков в одной из своих публичных лекций, которая так и называется «Поэзия Аполлона и Диониса» [4]. По его мнению, расцвет поэзии Аполлона – в творчестве Пушкина, «зарю нового поэтического творчества» Жаков видит в Толстом, но не в авторе «Войны и мира» и «Анны Карениной», а в авторе сказок, ибо «в них истинная поэзия, реальный оптимизм». В своих произведениях писатель показал гибельность дионисийства. Огромна и чудесна основная тайна Аполлона – счастье в неведении, трагичен разум, желающий знать истину, устремленный в бездны непознаваемого в рассказах «Уриила» (1905), «Из иньвенских былей» (1912), «Марья Севастьяновна Оплеснина» (1913) и других.
В каждом из мятущихся героев этих текстов ощущается беспокойный дух самого Жакова. Наиболее полно единство и борьбу Диониса и Аполлона как первоначал своей собственной личности он раскрыл в автобиографическом романе «Сквозь строй жизни». Трагедия духа присутствует в Гараморте – мифологизированном автобиографическом персонаже уже изначально, кармически. Дионисийский хаотический «избыток сил» заложен в нем по линии матери – Устиньи. Особенно ярко он представлен в ее брате – Нялае. Это человек «быстрого и великого ума, но еще более великой страсти», «тесно ему было на безлюдном, однообразном севере» [7, с. 46]. «Оргийное безумие» Ня-лая – от взрыва накопившихся сил, не находящих выхода. От него получил Жаков – Гараморт «неистовый жар души, безумие и храбрость» [7, с. 44]. Да и импульс к творчеству дал тот же нялаевский «переизбыток» чувств, мыслей, стремлений. Итоговый роман писателя отражает стихийную природу его творчества, о чем сам Жаков пишет так: «Его книга пестрит скобками. Она хаотична», – скажут многие, читая «Сквозь строй жизни». – Ну так что ж, – отвечу на это я. – Разве природа не плачет и смеется в одно и то же время?… » [7, с. 306]. Однако всю свою жизнь писатель стремится изменить свою природу, преодолеть в себе ницшевский «пессимизм силы», стремится к ясной мудрости своего отца и жалеет, что «лишь малая часть мудрости» перешла ему от Фалалея, «малая часть прометеевской прозорливости озарила» его «темную, глубоко страдающую душу» [7, с. 64]. «Моя душа из хаоса стремится быть личностью, воля хо- чет господствовать над моими страстями, разум борется с безумием, самообладание с неистовым порывом…» [7, с. 119]. Амбивалентность автобиографического персонажа романа «Сквозь строй жизни» зашифрована в его имени. Оно образовано от слов “гара” (в ижемском диалекте коми языка это – переплетенный, двойной, например, о нити) и “морт” (человек), т.е. двойственный человек. А вот что пишет в своей автобиографии Ницше: «Происхождение мое двойственное… поскольку во мне мой отец, я уже умер, поскольку моя мать, я еще живу и мужаю…» [2, с. 223]. Итог борьбы с самим собой и с внешними обстоятельствами один философ поведал миру в символико-мифологическом, философском романе «Сквозь строй жизни», другой – в символико-мифологической, философской поэме «Так говорил Заратустра».
Жаков откликается на ницшевский призыв к активности, к самоусовершенствованию, к устремленности вперед: «Я возделываю человека в себе…», «Мне нужно познать себя… О как трудно найти самого себя» [7, с. 10] и цитирует немецкого философа: «Где твое право искать дорогу к самому себе? … Где твое первое движение, в чем твоя инициатива?» [7, с. 171].
Географические образы, используемые Ницше в качестве метафоры духовного ландшафта (пустыня, горы, долина) – восхождения и спуски, связанные с интроспекцией, поиском судьбы появляются и в романе Жакова. Мифологема странника – основная в обоих текстах. Гараморт, как и Заратустра – изгнанник и скиталец (Заратустра: «Ты, уединение, – отчизна моя», «Я странник, неустанно восходящий на гору»; [9, с. 162, 292]; Гараморт: «Родины моей нет не только на земле – везде я чувствую себя как чужеземец», «Я странник, бесконечность – моя родина» [7, с. 92, 182]). В конце концов интроверт и маргинал Гараморт, как и ницшевский персонаж, становится проповедником и мудрецом, Певцом и Учителем. Главный итог своей жизни один обозначил так: «Смотрите, я – провозвестник молнии, я тяжелая капля из грозовой тучи, а имя той молнии – Сверхчеловек» [9, с. 13], другой пользуется той же символикой, когда говорит о себе, что он блуждал, «словно тяжелая туча, между прошлым и будущим, для того, чтобы родить молнию. Молния – творческое начало духа моего» [7, с. 283].
Несмотря на большую близость образов Гараморта и Заратустры, нельзя считать лирическое «Я» Жакова в этом произведении полностью «олитературенным», варьирующим образ Заратустры. Искания коми писателя глубоко укоренены в национальную почву, в этом жизненность его рефлексии. Гараморт стал воплощением зырянской души в ее исконном, архетипическом проявлении. Он несет в себе черты мифологических персонажей из других произведений Жакова – это трагически одинокий Шыпича, отпавшие от рода Бе-женада-Вирси-Угро и Тогай, искатели истины Джак и Качаморт и премудрый Пам Бур-Морт, творящий свою судьбу.
Жаков был среди тех, кто, вдохновленный германским философом, обратился к подсознательным творческим импульсам, идущим из вневременных глубин как к источнику для создания новой культуры. И он был первым, кто в своем творчестве показал первоначала зырянского духа в переплетении и борьбе хаоса и космоса: мрачного беспокойства и стихийной мощи – с жаждой жизни и жаждой знания.
Жаков не только прорывался к тому бессознательному, что формировало его личность, но и сознательно строил себя, свой духовный мир, истово мечтая, как и Ницше, стать провозвестником нового, гармоничного человека.
И как Ницше определял философско-эстетическое сознание России конца XIX – начала ХХ века, так «Зырянский Фауст» присутствует в сознании национальной интеллигенции конца XХ – начала XXI века – как миф, символ и катализатор духовных исканий.
Список литературы Идеи философии Фридриха Ницше в творчестве Каллистрата Жакова
- Бердяев Н. Самосознание / Опыт философской автобиографии. - М.: Книга, 1991. - 416 с.
- Вересаев В. Живая жизнь. - М.: Политиздат, 1991. - 448 с.
- Вестник знания. - 1926. - № 7.
- Вологодский листок. 1911. - № 276.
- Жаков К.Ф. Леонид Андреев и его произведения // Андреев Л.Н. Рассказ о семи повешенных. - СПб., 1909. (Прилож. к журн. «Ясная поляна». - 1909. - №3).
- Жаков К. Ф. Под шум северного ветра. - СПб.: Грамотность, 1913. - 463 с.
- Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни. Роман. - Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1986. - 384 с.
- Клюс Э. Ницше в России: Революция морального сознания. - Спб.: Академический проект, 1999. - 165 с.
- Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. - М.: Интербук, 1990. - 342 с.
- Ф. Ницше и философия в России. - СПб., 1999. - 382 с.