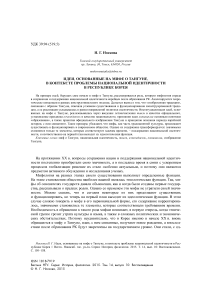Идеи, основанные на мифе о Тангуне, в контексте проблемы национальной идентичности в Республике Корея
Автор: Носкова Наталья Геннадьевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 10 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
На примере идей, берущих свое начало в мифе о Тангуне, рассматривается роль, которую мифология играла в сохранении и поддержании национальной идентичности корейцев после образования РК. Анализируются теоретические концепции в рамках конструктивистского подхода. Делается вывод о том, что «изобретенная традиция», связанная с образом Тангуна, отвечала условиям существования и функционирования сконструированной традиции, а ее реализация укладывалась в рамки направлений политики идентичности. Институциализация идей, основанных на мифе о Тангуне, реализовывалась через введение летоисчисления танги в качестве официального, установление праздника кэчхонджоль в качестве национального, признания идеи хоникинган основным понятием «образования», а также принятия официального изображения Тангуна и принципов описания периода корейской истории, с ним связанного. Такие примеры убеждают, что мифы, как часть традиционной культуры, продолжают существовать и функционировать в современном обществе. Однако их содержание трансформируется: значимыми становятся только те элементы, которые соответствуют задачам времени, - поддержания национальной идентичности, и соответственно на первый план выходит их идеологическая функция.
Миф о тангуне, национальная идентичность, танги, кэчхонджоль, хоникинган, изображение тангуна
Короткий адрес: https://sciup.org/147219241
IDR: 147219241 | УДК: 39:94
Текст научной статьи Идеи, основанные на мифе о Тангуне, в контексте проблемы национальной идентичности в Республике Корея
На протяжении XX в. вопросы сохранения нации и поддержания национальной идентичности постепенно приобретали свою значимость, а в последнее время в связи с ускорением процессов глобализации решение их стало особенно актуальным, и поэтому они являются предметом активного обсуждения и исследования ученых.
Мифология на разных этапах своего существования выполняет определенные функции. На этапе становления общества наиболее важной являлась этиологическая функция. Так, мифы об основателях государств давали объяснения, как и когда были созданы первые государства, рассказывали о предках родов. Однако со временем эти мифы не утратили своей значимости. Можно сказать, что и сегодня некоторые из них продолжают существовать и функционировать, но теперь на первый план выходит их идеологическая функция. В этом случае сложно говорить о мифе в его первоначальной форме, его содержание корректировалось, значимыми становились те элементы, которые соответствовали требованиям времени. Необходимость в обращении к такого рода мифам возникает, в первую очередь, когда этнической группе грозит утрата культуры и языка, а также в сложных политических и экономических обстоятельствах. Поэтому неудивительно, что в Корее именно в начале XX в. вновь обращаются к мифу о Тангуне, идеи, с ним связанные, получают новое рождение, а впоследствии после образования РК будут закреплены на государственном уровне. Они стали, с од-
Носкова Н. Г. Идеи, основанные на мифе о Тангуне, в контексте проблемы национальной идентичности в Республике Корея // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 10: Востоковедение. С. 150–158.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История , филология. 2015. Том 14 , выпуск 10: Востоковедение © Н. Г. Носкова , 2015
ной стороны, фактором, который способствовал поддержанию национальной идентичности корейцев, а с другой стороны, ее важным компонентом.
При анализе процессов становления и поддержания национальной идентичности продуктивным представляется применение конструктивистского подхода. Еще Ф. Барт обозначил применение этого методологического подхода к происхождению этничности [Этнические группы..., 2006]. В рамках такого подхода этничность определяется как процесс социального конструирования общностей, который может быть основан, в том числе, на представлении об общей истории и мифе об общности происхождения.
Э. Хобсбаум, обращая свое внимание на традиции, также придерживается конструктивистского подхода. Он вводит понятие «изобретенная традиция», под которым понимает сконструированную и формально институциализированную традицию. ««Изобретенная традиция» – это совокупность общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с помощью явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели – повторение» [Хобсбаум, 2000. С. 48]. «Внедрение определенных ценностей и норм поведения» по сути является установлением социальных связей, символизацией членства в группах, разного рода общностях. Одним из условий достижения этой цели является ее связь с историей, хотя она может носить и фиктивный характер. Э. Хобсбаум подчеркивает, что обращение к прошлому и древности облегчает задачу признания идеи. «Интересным представляется использование старинных материалов для того, чтобы сконструировать изобретенную традицию нового типа, служащую новым целям» [Хобсбаум, 2000. С. 52]. Можно сделать вывод о том, что подобная историчность выполняет функцию легитимации.
На традицию как социально-политический конструкт и основу конституирования нации указывают многие исследователи, среди которых и И. В. Рудакова. Она, разграничивая традиции этнические и национальные, отмечает легитимацию как дополнительную цель национальной традиции (т. е. традиция есть условие существования нации), а также то, что национальная традиция может изменяться и ее можно конструировать. Нация «как исторически более новая форма общности людей формируется на уже существующем культурно-этническом фундаменте и в некоторой степени отражает существующие ранее традиции, продолжает их» [Рудакова, 2015. С. 199]. Подчеркивание именно того условия, что новая традиция имеет свои «корни» и появляется не на «пустом месте», представляется очень важным, иначе бы «внедрение» и «закрепление» ее было бы невозможным. Кроме того, к условиям, при которых сконструированная традиция могла бы выполнять свою задачу по формированию и поддержанию чувства национальной идентичности, относятся следующие ее качества: она должна быть связанной практически с повседневной жизнью, закреплена эмоционально с помощью символов, образов в сознании и постоянно воспроизводиться [Там же. С. 201].
Процесс конструирования традиций может быть рассмотрен и в рамках политики идентичности как «деятельности политических элит по формированию представлений о “мы-сообществе” в рамках административно-территориальных границ» [Цумарова, 2013. С. 36]. Основными направлениями такой политики являются «символизация и ритуализация принадлежности к пространству, формирование представлений о “мы-сообществе” и установление границ “свой-чужой”« [Там же. С. 37].
Как можно убедиться на приведенных ниже примерах, «изобретенная традиция», связанная с образом Тангуна, отвечает условиям существования и функционирования сконструированной традиции, а ее реализация укладывается в рамки направлений политики идентичности. Примеры таких «изобретенных традиций» можно найти во всех уголках мира. Интересно, что процессы, происходящие с трансформацией идей, связанных с мифом о Тан-гуне, на Корейском полуострове очень похожи на трансформацию культа почитания королей Хунгов во Вьетнаме (ср. [Григорьева, 2014]).
Однако, безусловно, в каждом конкретном случае традиция имеет свою специфику. Корейский исследователь Чон Ёнхун, опираясь на положения концепции Э. Хобсбаума, исследовал феномен институциализации идей, заложенных в мифе о Тангуне. Он обращал внимание на то, что если изобретенная традиции, о которой говорит Хобсбаум, создана для укрепления власти политической элиты и ей же принадлежит руководящая роль, то в случае с корейской традицией главная роль в ее создании принадлежит не власти и государству, а народным пат- риотам, преисполненным национальными чувствами. Прежде чем новая традиция была зафиксирована на государственном уровне, она прочно закрепилась в массовом сознании [Чон Ёнхун, 2008. С. 190].
Институциализация идей, основанных на мифе о Тангуне, реализовывалась через введение летоисчисления танги в качестве официального, установление праздника кэчхонджоль в качестве национального, признание идеи хоникинган основным понятием «образования», а также принятие официального изображения Тангуна и принципов описания периода корейской истории, с ним связанного.
Традиция признания Тангуна основателем самого первого корейского государства Чосон восходит к 1281 и 1287 г., когда миф о Тангуне был зафиксирован в « Самгук юса » и « Чеван унги » . В « Чеван унги » есть указание на то, что Силла, Когурё, Пуё, Северное и Южное Окчо, Восточное и Северное Пуё, Е, Мэк – все были потомками Тангуна, а следовательно, в этом источнике обозначена точка зрения, признающая Тангуна и время его правления за начало национальной истории [Чон Ёнхун, 2010. С. 405]. Во время династии Ли господствующей становится конфуцианская идеология, складываются определенные отношения с Китаем, и на первое место выходит идея почитания Киджа, а представление о том, что Тангун является символом начала независимой корейской истории, не получает своего широкого распространения. Однако, несмотря на это, в различных источниках того времени первая глава истории Кореи начиналась с Тангуна. Кроме того, есть упоминания и о проводимых ритуалах, посвященных Тангуну [Чон Ёнхун, 2008. С. 164].
Роль представлений о Тангуне как предке всех корейцев и времени его правления как о начале корейской истории не ограничивается только поддержанием национальной идентичности, они также имеют важное значение в консолидации сил для решения таких задач, как достижение национальной независимости и единства. Осознание этого пришлось на последний период существования Корейской империи и время японской оккупации, когда намеренно стала разворачиваться деятельность по распространению идей, связанных с верой в Тангуна. Поскольку такие идеи соответствовали условиям времени, они были быстро восприняты народными массами, а после образования РК были зафиксированы на государственном уровне [Там же. С. 165].
Примером того, какое место в XX в. после образования РК занимало представление о Тан-гуне, может служить летоисчисление танги ( 단기 , 檀紀) .
В Корее вплоть до конца XIX в. использовалось китайское летоисчисление. После воцарения в 1392 г. новой династии Ли с минским двором были установлены тесные связи в рамках так называемой даннической системы. Сразу после того, как Ли Сонге пришел к власти, к минскому двору был отправлен специальный посланник с просьбой пожаловать название страны. Аналогичные отношения были установлены позднее и с цинским Китаем. Условия этих отношений были определены после неудачной для Кореи войны с маньчжурами. По мирному договору Корея должна была отправлять в Пекин даннические посольства, испрашивать инвеституру каждому новому корейскому вану и использовать китайское летоисчисление [Забровская, 1987. С. 15]. Использование китайского летоисчисления в качестве официального свидетельствовало о закреплении так называемого сознания «маленького Китая» ( 소중화 의식 , 小中華 意識) , т. е. представления о Корее не как о самостоятельном и центральном государстве, а наоборот, как находящемся на периферии небольшом владении [Ким Бёнги, 2012. С. 76]. Провозглашение собственного летоисчисления свидетельствовало бы о равноправном с Китаем положении и получении, так же как и Китаем, мандата Неба [Чон Ёнхун, 2008. С. 165–166].
В Корее только с конца XIX в. начинает использоваться независимое летоисчисление: кэгуккивон (개국기원, 開國紀元), конян (건양, 建陽), кванму (광무, 光武), юнхи (융희, 隆熙). Введение такого летоисчисления, а также провозглашение в то время страны империей, выбор нового названия для страны – все это было сделано с целью подчеркнуть свою древность, независимость, и должно было показать равное положение как с Китаем, так и с Японией. Однако это было демонстрацией независимости на государственном уровне, но не нацио- нальном. Именно танги становится тем летоисчислением, которое стало отражением национальной идентичности корейцев [Чон Ёнхун, 2008. С. 166. Ким Бёнги, 2012. С. 77].
Танги – способ летоисчисления от года основания Тангуном государства. В зависимости от источника дата основания Тангуном государства несколько варьируется. Л. Р. Концевич, основываясь на «Самгук юса», приводит следующий критический перевод мифа о Тангуне: «На пятидесятом году по вступлении на престол Тан-Гао в год “кёнъин” (начальным годом вступления на престол Тан-Гао является год “муджин”; следовательно, пятидесятый год – это год “чонса”, а не “кёнъин”, в чем сомневаться не приходится) [Тангун] основал столицу в крепости Пхёнъянсон (ныне – Согён) и впервые назвал [страну] Чосон» [Концевич, 1984. С. 177]. В письменных источниках правления династии Ли наиболее часто встречающимся годом основания выступает 25-й год правления императора Яо «муджин». Как это указано в самом раннем историческом источнике периода Чосон, созданном по повелению вана, « Тонгук тхонгам » ( 동국통감 , 東國通鑑) , время вступления на престол императора Яо соотносится с годом «капчин» (по европейскому календарю – 2357 г. до н. э.), а 25-й год «муд-жин» (по европейскому календарю – 2333 г. до н. э.) – год основания Тангуном государства [Чон Ёнхун, 2008. С. 169]. Такое летоисчисление начинает использоваться примерно с 1905 г., а после образования РК согласно Закону № 4 от 25 сентября 1948 г. оно было принято в качестве официального (Куккапомнён...). Через 13 лет Законом № 775 от 2 декабря 1961 г. в качестве официального летоисчисления в РК принимается европейское. С 1 января 1962 г. в официальных документах исчезает танги . Причина изменения летоисчисления объяснялась трудностями, которые вызывало использование танги как на административном уровне, так и внешнеполитическом, а также тем, что в большинстве передовых стран используется именно европейское летоисчисление. Однако Ким Бёнги характеризует отмену использования танги как решение отойти от национальной идентичности [Ким Бёнги, 2012. С. 80]. Закон о летоисчислении, принятый 7 января 2014 г., повторяет закон 1961 г.
После отмены использования летоисчисления танги продолжаются движения, в основном сконцентрированные вокруг негосударственных организаций, за его возрождение. Подчеркивается, что возрождение танги не будет возвращением к национализму, а станет обращением к национальной гордости и возрождением национального духа [Там же. С. 74].
Интересно, что вопросы летоисчисления танги рассматриваются и в контексте проблемы объединения двух Корей. Ян Сынтхэ показывает связь между летоисчислением, историческим сознанием и национальной идентичностью, подчеркивает, что летоисчисление, будучи символом исторического сознания, может стать действенным способом усиления национальной и государственной самобытности [Ян Сынтхэ, 2007. С. 26–27].
Влияние мифа о Тангуне на национальную идентичность южных корейцев можно проследить на примере национального праздника кэчхонджоль ( 개천절 , 開天節) , дня образования первого корейского государства Тангуном, т. е. фактически он является символом начала корейской национальной истории и культуры . Этот праздник был одним из четырех национальных, которые были официально признаны Законом № 53 от 1 октября 1949 г. и установлены с целью празднования знаменательных для государства дней. Законом № 7771 от 29 декабря 2005 г. этот список пополнился еще одним праздником, 9 октября – День корейской письменности хангыль . Закон от 30 декабря 2014 г. повторяет предыдущий, и сегодня кэчхонджоль остается в списке национальных праздников.
Возражений в 1949 г. по поводу того, чтобы 3 октября установить праздник кэчхонджоль, практически не возникло, связано это было с тем, что так называемый «национализм Тангу-на» как способ национального единения уже достаточно сильно закрепился в обществе. Возникли споры только относительно проведения его по лунному или солнечному календарю, окончательное решение было принято в пользу солнечного. После этого каждый год в день празднования кэчхонджоль поднимаются флаги на государственных учреждениях и домах, проходят официальные праздничные мероприятия. Мероприятия, организованные центральной властью, состоят из церемонии открытия, официальной части, речи председателя Комитета по составлению истории Кореи о создании государства, поздравления премьер-министра, исполнении песни кэчхонджоль и троекратного ура. До 1970 г. в районных административных органах, а также в школах отдельно проводились мероприятия, посвященные этому празднику. Сейчас они практически не проводятся, однако остались разнообразные мероприятия неправительственными организациями [Чон Ёнхун, 2010. С. 422].
В последнее время высказывается мнение о том, что этот праздник не нужен, его необходимо исключить из числа национальных. Объясняется это тем, что праздников достаточно много, а также тем, что вера в Тангуна не является символом, связанным с национальной идентичностью, а находится в религиозной плоско сти [Там же. С. 424].
Еще один феномен, который непосредственно связан с мифом о Тангуне и который нашел свое воплощение в южнокорейском обществе, – это идея хоникинган . Упоминание об этой идее есть только в двух источниках – « Самгук юса » и « Чеван унги ». В записях периода династии Ли упоминаний о ней нет, в то время господствующей идеологией, как мы уже отмечали, было конфуцианство, и из рассказа о создании Тангуном государства повествование о Хвани-не и Хвануне было изъято [Чон Ёнхун, 2008. С. 178]. В критическом переводе, сделанном Л. Р. Концевичем по « Самгук юса », говорится следующее: «Давным-давно жил Хванин (так именовался Чесок). [Его] побочный сын Хванун часто думал о поднебесье и страстно жаждал [попасть] в мир людей. Отец, узнав о помыслах сына, высмотрел внизу [среди] трех отрогов [гору] Тхэбэк [и решил, что именно здесь тот] сможет доставить много пользы людям. И тогда [Хванин] вручил [сыну] три мандата неба и послал его управлять людьми» [Концевич, 1984. С. 175]. В той части, которая переведена как «доставить много пользы людям» говорится как раз об идее хоникинган ( 홍익인간 , 弘益人間) . В переводе она означает «приносить много пользы людям» или «много помогать людям». Хоникинган – выражение гуманистической идеи, когда главной ценностью является человеческое достоинство и счастье. Однако к этой идее обращаются только в XX в., в то время, когда возникла острая необходимость в национальной идее, которая могла бы снять как идеологическое, так и классовое противостояние [Чон Ёнхун, 2008. С. 180].
После образования РК эта идея была закреплена как основной принцип «образования» в первом пункте Закона об образовании от 31 декабря 1949 г. Там говорилось, что «целью образования является воспитание личности, приобретение умения жить независимо и качеств граждан, служение развитию демократического государства и вклад в реализацию идеи человеческого процветания в соответствии с идеей хоникинган » [Там же. С. 182]. Несмотря на возражения, например со стороны коммунистов и приверженцев западной идеологии, эта идея до сих пор остается основным понятием образования. В Законе об образовании № 13003 от 20 января 2015 г. во втором пункте, где объясняется цель образования, по-прежнему ключевую роль играет идея хоникинган.
В последнее время указывается также на важность идеи хоникинган в решении задач, связанных с поиском национальной идентичности, и задач, перед которыми стоит корейское общество XXI в.: объединение Юга и Севера и создание единой корейской национальной общности, нравственное очищение и объединение общества, успешное прохождение эпохи глобализации [Чон Ёнхун, 2002. С. 147].
Кроме рассмотренных примеров, когда идеи, связанные с мифом о Тангуне, нашли сначала свое отражение в корейской идентичности, а позднее были зафиксированы на государственном уровне, большой интерес к образу Тангуна в XX в. можно показать также на примере развернувшихся вокруг него дискуссий.
После образования РК в 1949 г. копия с изображения Тангуна, сделанная Чи Сончхэ с сохраненного Кану изображения, получив одобрение Национального собрания, была признана примером для изображения предка в РК. В 1976 г. правительством было принято решение, что признается только религиозное ( тэджонгё ) изображение. Но уже в 1977 г. правительство поручило обществу « Хёнджонхве » (общество, которое было создано в 1968 г. с целью утверждения национальной независимости на основе идей, связанных с мифом о Тангуне) создать изображение Тангуна, и 28 августа 1978 г. изображение, сделанное художником Хон Сокчха-ном, было принято в качестве образцового. Таким образом, возникла путаница. Правительство пояснило, что изображение общества « Хёнджонхве » – объект уважения, а то изображение, которое связано с религией тэджонгё , – объект веры [Им Чхэу, 2012. С. 53–55].
В середине 80-х гг. XX в. активно обсуждался вопрос о строительстве храма Тангуна в Сеуле. В феврале 1985 г. с целью поднятия национального духа у подрастающего поколения было принято решение о строительстве такого храма. Но этот проект получил резкое сопротивление со стороны христианских организаций [Там же. С. 60].
В 1987 г. был также поднят вопрос об описании Тангуна в учебниках по истории. В это время Комитетом по составлению истории были подготовлены комментарии к составлению истории, в которых говорилось, что «миф о Тангуне будет рассматриваться с той точки зрения, что в нем отражены исторические факты». Однако протестантская церковь выступила против подобного описания мифа о Тангуне в учебниках истории и развернула целое движение [Там же. С. 61]. Этот конфликт попытался разрешить профессор И Манёль. Он отвергал точку зрения, что миф о Тангуне – это только миф, так как считал, что такое мнение – отражение колониального взгляда на историю, но также отвергал и то, что этот миф – исторический факт, видя в таком мнении отражение религии тэджонгё. И Манёль отмечал, что миф о Тангуне языком мифа передает исторические факты, что Тангун – титул правителя, а брак Хвануна и медведицы есть объединение двух племен. Такая точка зрения отражена и в сегодняшних учебниках [Пак Мёнсу, 2009].
Кроме того, необходимо отметить большое количество мероприятий и организаций, распространенных в РК и связанных с верой в Тангуна, которые могут свидетельствовать о значении идеи Тангуна в сознании современных корейцев. В восприятии Тангуна выделяют три основных направления. Согласно первому, Тангун – божество, такого взгляда придерживаются различные религиозные организации: тэджонгё (национальная религия), тангунгё , кэч-хонгё , кэчхонминджокхва и т. д. Согласно второму, Тангун – исторический герой, предок нации, который, объединив племена, создал государство Древний Чосон и управлял им в соответствии с идеей хоникинган ( общество « Хёнджонхве », Федерация общественных организаций страны « Чонгук сахветанчхе чхонёнхапхве »). Третье направление считает, что Тангун – персонаж фестивалей, которые проводятся в основном местными органами самоуправления, их целью является поддержание национального духа (ежегодный фестиваль, проводимый на горе Марисан острова Канхвадо, ежегодно проводимые ритуалы в честь неба и Тангуна на горе Тхэбэксан и др.) [Ким Ыйсук, 2007. С. 505–506].
Таким образом, приведенные примеры убеждают в том, что идеи, заложенные в мифе, находят свое новое рождение, становятся, по сути, «изобретенной традицией» и частью политики идентичности, активно используются при решении задач, связанных с поддержанием национальной идентичности, а также позволяют судить о роли традиционной культуры в сохранении и поддержании национальной идентичности.
Список литературы Идеи, основанные на мифе о Тангуне, в контексте проблемы национальной идентичности в Республике Корея
- Григорьева Н. В. Короли Хунги и «изобретение традиций» в истории Вьетнами // Вьетнамские исследования. 2014. № 4. С. 227-249.
- Забровская Л. В. Политика Цинской империи в Корее: 1876-1910 гг. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1987. 131 с.
- Концевич Л. Р. Древнекорейский миф о Тангуне и его ономастикон // Этническая ономастика. М.: Наука, 1984. С. 173-192.
- Рудакова И. В. Традиция как основа конституирования нации // Гилея: научный вестник. 2015. № 93 (2). С. 198-201.
- Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. 2000. № 1. С. 47-62.
- Цумарова Е. Ю. Основные направления политики идентичности: конструктивистский подход // Учен. зап. Петрозавод. гос. ун-та. Серия: Общественные и гуманитарные науки. 2013. Т. 2, № 7 (136). С. 36-38.
- Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных различий / Под ред. Ф. Барта; пер. сангл. И. Пильщикова. М.: Новое издательство, 2006. 200 с.
- Им Чхэу. Хэбан ху тангун инсик-ый пёнхва-ва мундже [임채우. 해방 후 단군 인식의 변화와 문제 // 선도문화. 2012. № 12]. Изменение представлений о Тангуне после Освобождения Кореи // Сондо мунхва. 2012. № 12. С. 47-71.
- Ким Бёнги. Тангиёнхо-ва тэханмингук имсиджонбу [김병기. 단기연호와 대한민국임시정부 // 선도문화. 2012. № 12]. Летоисчисление танги и временное правительство Республики Корея // Сондомунхва. 2012. № 12. С. 73-93.
- Ким Ыйсук. Тангунсинан-ый хёнсон-гва чонгэ [김의숙. 단군신앙의 형성과 전개 // 강원민속학. 2007. № 21]. Формирование и развитие веры в Тангуна // Канвонминсокхак. 2007. № 21. С. 493-524.
- Пак Мёнсу. Тангунcан, чонгё усанинга ёксаджок чохёнмуринга [박명수. 단군상, 종교 우상인가 역사적 조형물인가 // 크리스천투데이 08.12.2008]. Скульптура Тангуна, это религиозная или историческая скульптура // Кхырисычхон тхудеи. 08.12.2008. URL: http://www. christiantoday.co.kr/view.htm?id=205654
- Чон Ёнхун. Хангукин-ый чончхесон-гва хоникинган инём [정영훈. 한국인의 정체성과 홍익인간이념 // 고조선단군학. 2002. № 6]. Идентичность корейцев и идея хоникинган // Ко Чонсон Тангунхак. 2002. № 6. С. 145-169.
- Чон Ёнхун. Танги ёнхо, кэчхонджоль куккёниль, хоникинган кёюкинём: хёндэ хангукэсоый тангунминджокчуый-ый чедохва-е кванхан ёнгу [정영훈. 단기 연호, 개천절 국경일, 홍익인간 교육이념: 현대 한국에서의 단군민족주의의 제도화에 관한 연구 // 정신문화연구. 2008. № 31(4)]. Летоисчисление танги, государственный праздник кэчхонджоль, идея «образования» хоникинган: институциализация «национализма Тангуна» в современной Кореи // Чонсинмунхва ёнгу. 2008. № 31(4). С. 163-193.
- Чон Ёнхун. Кэчхонджоль, кы 'мандыроджин чонтхон'-ый юрэ-ва чхуи кыриго пэгён [정영훈. 개천절, 그 '만들어진 전통 '의 유래와 추이 그리고 배경 // 고조선단군학. 2010. № 23]. Кэчхонджоль, основы этой «созданной традиции», изменения и контекст // Ко Чосон Тангунхак. 2010. № 23. С. 401-444.
- Ян Сынтхэ. Тангиёнхо-ва тхоньиль: ёнхо чеджон-гва пхеджи-ый нам·пукхан чончхиса-ва ёксаыйсик, кыриго тхонильгукка-ый чончхесон мундже [양승태. 단기연호와 통일: 연호 제정과 폐지의 남∙북한 정치사와 역사의식, 그리고 통일국가의 정체성 문제 // 한국정치학회보. 2007. № 41 (2)]. Летоисчисление танги и объединение: утверждение и от-мена летоисчисления в политической истории и историческом сознании Северной и Южной Корей, вопрос идентичности объединенного государства // Хангук чончхи хакхвебо. 2007. № 41 (2). C. 25-46.