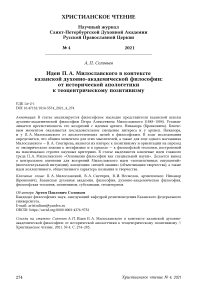Идеи П. А. Милославского в контексте Казанской духовно-академической философии: от исторической апологетики к теоцентрическому позитивизму
Автор: Соловьев Артем Павлович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 4 (99), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется философское наследие представителя казанской школы духовно-академической философии Петра Алексеевича Милославского (1848-1884). Устанавливается преемственность его воззрений с идеями архиеп. Никанора (Бровковича). Ключевым моментом оказывается последовательное смещение интереса и у архиеп. Никанора, и у П. А. Милославского от апологетических целей к философским. В ходе исследования определяется, что общим моментом для этих мыслителей, а также для еще одного наставника Милославского - В. А. Снегирева, является их интерес к позитивизму и ориентации на переход от эмпирического знания к метафизике и в пределе - к философской теологии, построенной на максимально строгих научных критериях. В статье выделяются ключевые идеи главного труда П. А. Милославского «Основания философии как специальной науки». Делается вывод о центральном значении для воззрений Милославского идеи «концептивных ощущений» (интеллектуальной интуиции), концепции «вещей знания» (объективации творчества), а также идеи коллективного, общественного характера познания и творчества.
П. а. милославский, в. а. снегирев, в. и. несмелов, архиепископ никанор (бровкович), казанская духовная академия, философия, духовно-академическая философия, философская теология, позитивизм, субстанции, теоцентризм
Короткий адрес: https://sciup.org/140290128
IDR: 140290128 | УДК: 14+2-1 | DOI: 10.47132/1814-5574_2021_4_274
Текст научной статьи Идеи П. А. Милославского в контексте Казанской духовно-академической философии: от исторической апологетики к теоцентрическому позитивизму
Жизненный путь П. А. Милославского
Петр Алексеевич Милославский (1848–1884) — выпускник Самарской духовной семинарии (1868), Казанской духовной академии (1872) [Б. а., 1884а, 419]. Его можно назвать прямым учеником архиеп. Никанора (Бровковича). Это подтверждается не только тем, что Е. А. Зефиров — однокашник Милославского по Казанской духовной академии — указывает это напрямую. И даже не тем, что после того как еп. Никанор стал уфимским архиереем, болеющий П. А. Милославский «три лета провел в Уфе на кумысе, пользуясь гостеприимством, любовию и услугами Преосвящ. Никанора» [Зефиров, 1893, 721]. Тут важнее, что именно сам архиеп. Никанор указал на Милославского в числе тех студентов, которых надо оставить для преподавания в Академии, после того как они окончат обучение в ней [Знаменский, 1891, 263–264].
Вопрос об определении П. А. Милославского как ученика архиеп. Никанора имеет принципиальное значение. Бытует мнение, что поскольку именно В. А. Снегирев составлял программу годичной учебы Милославского в университетах Германии в 1874–1875 гг., то именно он и был учителем Милославского [Журавский, 1999, 126]. Да, Милославский поступил в Академию в тот же год, когда ее возглавил архим. Никанор и когда там начал преподавать Снегирев. Окончил он ее спустя год после того, как архим. Никанора рукоположили во епископа Аксайского, Донского викария. И именно по рекомендации архиеп. Никанора П. А. Милославский был действительно оставлен для преподавания. За время учебы Милославский слушал лекции как архим. Никанора, так и В. А. Снегирева, но, как будет видно далее, Милославский ни разу не упоминает в своих трудах Снегирева, и неоднократно обращается к трудам архиеп. Никанора.
После выхода в свет второго тома трактата архиеп. Никанора «Позитивная философия и сверхчувственное бытие» Милославский пишет рецензию на оба тома, рецензию, больше похожую на апологию. А затем, спустя четыре года, в своем главном труде «Основания философии как специальной науки» (1883) П. А. Милославский выражает «оммаж» в адрес своего учителя: «Философы давно настаивают на существовании какого-то особого способа знания, кроме общеизвестных видов ощущений, и прямо приравнивают этот способ к опыту. Он описывается под различными именами: ανάμνησις Платона, может быть и τό δαιμόνιον Сократа, интуиция и врожденность в новой философии, intellektuelle Anschauung Шеллинга и пр. Этот же способ, под именем внутреннего или душевного чувства, не только указан у одного из русских мыслителей, но с глубоким научно-философским смыслом поставлен принципом философии, отрицающим господство в философии логических категорий и систематики, в пользу живых, реальных представлений» [Милославский, 1883, 288]. Этот отрывок завершается ссылкой на трактат архиеп. Никанора.
Подобное же внимание архиеп. Никанор проявил по отношению к П. А. Милославскому в третьем томе своего философского трактата, который он начинает с указания на работу своего ученика «Типы философской мысли в Германии» (1878): «Вот изучаем типы современной философской мысли в Германии, и поражаемся поистине изумительным, чтобы только не сказать — чудовищным явлением, что эти типы расходятся между собою во многом и часто весьма существенном; но все сходятся в том, что о бытии Бога и личного и бессмертного духа мы не знаем ничего; или даже напротив, знаем, что Бога и личного бессмертия нет; что вера в это — жалкая, хотя для большинства людей и дорогая иллюзия; даже больше, что всякая основывающаяся на этих коренных истинах религия вредна; что всякий серьезно-развитой ум обязан ее отвергать, а все человечество общими усилиями, для собственного блага, искоренять» [Никанор Бровкович, 1888, 4].
Надо сказать, что столь однозначное высказывание взаимного уважения практически невозможно встретить еще между кем-либо из представителей казанской духовно-академической философской школы. Возможно, что если бы П. А. Милославский справился бы со своей болезнью, то это привело бы к появлению удивительного творческого тандема учителя и ученика и наверняка определило бы интереснейшее влияние Милославского на Несмелова. Однако вместо развития оригинального идейного направления история казанской духовно-академической философии имеет одну из самых своих трагических страниц.
Во время своей годичной командировки в Германию в середине 1870-х гг. Милославский заболел туберкулезом, а потом долго и безуспешно боролся с этой болезнью. В конце 1883 г. он уходит в отставку. Петр Алексеевич Милославский умер 18 марта 1884 г. в возрасте 36 лет. Он погребен на Арском кладбище города Казани. У Петра Алексеевича остались дочь и жена Екатерина Ивановна, урожденная Порфирьева. Супруга была беременна вторым ребенком, который родился через неделю после смерти ученого. Спустя три недели (9 апреля 1884 г.) по кончине Петра Алексеевича его супруга также скончалась, оставив двух малолетних детей сиротами [Б. а., 1884а, 420]. Дети затем воспитывались семейством профессора Порфирьева, тестя Милославского. Эта трагедия не могла не вызвать сильных переживаний среди близких, друзей, сослуживцев и однокашников покойного философа.
Речи его сослуживцев и учеников напечатаны в 1884 г. на страницах журнала «Православный собеседник» [Б. а., 1884б]. Собственно, только они и являются источниками для изучения биографии Милославского. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что для изучения его философии необходимо обращаться к его же трудам, которых за свою короткую жизнь П. А. Милославский написал немало.
Вот их полный перечень:
-
1. Древнее языческое учение о странствованиях и переселениях душ и следы его в первые века христианства // Православный собеседник. 1873. Т. I. С. 261–302, 348–389, 443-482; Т.П.С. 107-174, 236-262; Т.Ш.С.52-83, 213-275, 389-437. (Было издано и отдельным оттиском). [Милославский, 1873].
-
2. Немецкая интеллигенция (Письма из за границы) // Православный собеседник. 1875. Т. I. С. 187–203, 419–433; Т. II. С. 139–150, 429–440; Т. III. C. 110–121. [Милославский, 1875а].
-
3. Современное учение о субстанциях (Пробная лекция по метафизике) // Православный собеседник. 1875. Т. II. С. 401–421. [Милославский, 1875б].
-
4. Типы современной философской мысли в Германии // Православный собеседник. 1876. Т. I. С. 198–218, 243–298, 460–497; 1877. Т. I. С. 3–28, 259–281; 1878. Т. I. С. 153– 193, 275–314, 363–399; Т. II. С. 64–111. [Милославский, 1876а].
-
5. По поводу народного издания «Leben Jesu Штрауса» в Германии и Франции // Православный собеседник. 1876. Т. I. С. 77–88. [Милославский, 1876б].
-
6. Современная ученость и христианство. — По поводу книги Дрэпера «История столкновения между религией и наукою» // Православное обозрение. 1977. Т. I. С. 111– 151. [Милославский, 1877а].
-
7. Закон сохранения силы и душевные явления // Православное обозрение. 1877. Т. III. С. 275–318. [Милославский, 1877б].
-
8. Наука и ученые люди в русском обществе (по поводу толков, возбужденных г. Михайловским и проф. Цитовичем) // Православный собеседник. 1879. Т. 1. С. 111–149. [Милославский, 1879а].
-
9. Позднее слово о преждевременном деле (Страница в истории русской философской мысли) // Православное обозрение. 1879. Т. I. С. 265-292; Т. III. С. 500-522. [Милославский, 1879б].
-
10. Происхождение и значение философии // Православное обозрение. 1879. Т. III. С. 232–266. [Милославский, 1879в].
-
11. Основания философии как специальной науки. Казань, 1883. I–IV, 443, I–II c. [Милославский, 1883].
Что же касается характеристик личности Милославского, то понятно: те черты, которые указывают на похоронах, могут быть несколько идеализированными. Но некоторые из них оказываются достаточно любопытными, исходя из того, что речь идет именно о философе. Так, однокашник и коллега П. А. Милославского архим. Антоний (Вадковский), присутствовавший на похоронах, говорил, что Милославский «хладнокровно мог смотреть в глаза смерти, но, будучи вместе с тем и человеком верующим, он более всякого другого понимал, что философское равнодушие не имеет ничего в себе положительного, а что истинная жизнь дается духу человеческому только Богом личным и живым и что истинное блаженство заключается только в личной жизни духа человеческого в этом и с этим живым Богом» [Антоний Вадковский, 1884, 425]. Эти слова отражают, конечно же, в первую очередь установку на восприятие функции философии в духовных академиях вообще. Но есть тут и определенная фактическая сторона. И это видно по биографии самого Милославского.
Петр Алексеевич родился в Самарской губернии в 1848 г. в семье священника. Он учился в Самарской духовной семинарии, которую закончил в 1868 г. 1868– 1872 гг. — учеба в Казанской духовной академии. Тут он подготовил кандидатскую диссертацию «О возможности распространения человеческого познания на предметы, относимые в реально-позитивной школе к области полного незнания либо непостижимого». Тема, несомненно, связана с проблематикой, которая интересовала архиеп. Никанора.
Остальные данные его биографии обобщает в своем исследовании А. В. Журавский: «В 1874 году Милославский представил и защитил магистерскую диссертацию „Древне-языческое учение о странствованиях и переселениях душ и следы его в первые века христианства“, причем официальным оппонентом его был Снегирев. В том же 1874 году Милославский был командирован за границу сроком на год для ознакомления с „господствующим в Германии направлением философии и отношением его особенно к позитивному и материальному“, уяснения „положения метафизики в германских университетах'1, составления „каталога пособий и руководств по ме-тафизике“ и посещения университетов в Берлине, Гетгингене, Гейдельберге, Галле и Марбурге. Инструкцию для заграничных занятий Милославского разработал Снегирев. Общий отчет о своей поездке Милославский опубликовал под названием „Типы современной философской мысли в Германии“ в академическом журнале за 1876 год. Ряд статей по философской тематике были опубликованы Милославским в „Православном Собеседнике', „Православном Обозрении' и других изданиях. <...> Фундаментальное сочинение, собственно и принесшее Милославскому известность, — „Основания философии, как специальной науки“ (1883). За этот труд Милославский был удостоен в 1883 году премии имени митрополита Макария. В декабре того же года доцент Милославский подал прошение об увольнении по болезни, 1 февраля 1884 года был уволен и 18 марта 1884 года скончался» [Журавский, 1999, 126–127].
Философские труды П. А. Милославского
Милославский начинает свой творческий путь с изучения агностицизма и идеи переселения душ. В этом смысле его проблематика первоначально представляла собой историко-богословское исследование тем, характерных для апологетической литературы. Именно это позволяет сказать, что он начинает с историко-богословской апологетики. В своей магистерской диссертации «Древнее языческое учение о странствиях и переселении душ и следы его в первые века христианства» [Милославский, 1873] он утверждает, что идея бессмертия души существовала еще в дохристианские времена. Но тогда идея бессмертия души была связана с фантазией, поэтому «без Божественного откровения бессмертие души было довольно смутным и неопределенным» [Милославский, 1873, 263]. Он объясняет ошибочность учений о реинкарнации, доказывая, что души людей не могут переселяться в разные объекты, так как они стремятся к высшей цели. По мнению Милославского, «идея о переселении душ возникла из простого представления существования бессмертной души среди тленной и преходящей материи и служила выражением простого и естественного факта материальных изменений и превращений» [Милославский, 1873, 437].
В 1875 г. в «Православном собеседнике» выходит статья Милославского «Современное учение о субстанциях» [Милославский, 1875б], в которой философ размышляет о понятии «субстанция». По его мнению, «субстанция составляет точку отправления для всего научно-философского развития и познания человечества» [Милославский, 1875б, 402]. В своей работе он анализирует учения о субстанциях таких мыслителей, как Спиноза, Кант, Бэкон, Локк. По его мнению, именно на основе их воззрений развивалось современное учение о субстанциях, которое теперь существенно отличается от учений предшественников. В современной ему философии, по мнению Милославского, субстанции получили совершенно другое понимание: «Там субстанции становились впереди всякого познания и мышления, как начала всего познаваемого и мыслимого, — здесь, наоборот, субстанции как можно далее отставляются на задний план, а впереди познания и мышления становится вещь или событие, данные в опыте и наблюдении. Там субстанциям старались придать высшую степень достоверности и очевидности, — здесь, наоборот, субстанциям придают высшую степень сомнительности и непонятности» [Милославский, 1875б, 409]. По мнению Милославского, «современное учение о субстанциях, отрицая их для познания, не в силах уничтожить их для сознания» [Милославский, 1875б, 413]. В этой статье философ приходит к выводу о том, что современное отрицание субстанций в познании является научным предубеждением, которому рано или поздно придет конец [Милославский, 1875б, 431].
Текст Милославского о субстанциях был пробной лекцией для вступления на кафедру метафизики. И одним из пунктов его воззрений, который он проговаривал в этой лекции, был тезис о том, что «в корне всякой вещи и вообще всего существующего полагалась уже не субстанция, а только понятие о субстанции, какою именно она по силе человеческого умозрения должна быть» [Милославский, 1875б, 403]. Такой подход к изучению бытия, по мнению философа, тормозил развитие философии, так как «для их последователей эти отвлеченные субстанции были мертвыми трупами живой мысли» [Милославский, 1875б, 403]. Это разделение понятия от его содержания привело, по его мнению, к дуалистическому пониманию сущности вещей, которое заключается в том, что «духовные явления вытекают из особой сущности духа, а материальные из особой сущности материи» [Милославский, 1875б, 404]. Милославский не соглашается с этим дуализмом. И это, как видно, отличает его воззрения от воззрений В. А. Снегирева и демонстрирует близость Милославского к воззрениям архиеп. Никанора.
Но именно Снегирев способствовал тому, что Милославский был отправлен за границу в научную командировку. Результатом этой его стажировки стала вышедшая в 1876 г. книга «Типы современной философской мысли в Германии». В этой работе П. А. Милославский отмечает, что особенностью современной философской мысли в Германии является признание философии как дела чистого разума, чистой мысли, не возмущенной ничем земным. В своей работе он особое внимание уделяет метафизике как самостоятельной науке. Вообще командировка Милославского за границу может быть предметом самостоятельного исследования. Его оценки, несомненно, тенденциозны. Но интересны отдельные наблюдения, которые он делает в то время, когда Вл. С. Соловьев только защитил свою диссертацию о кризисе западной философии. Милославский пытается показать, как сама немецкая философия ищет выхода из своего кризиса. Тут уместно напомнить, что автор программы командировки Милославского — В. А. Снегирев, как и учитель Милославского — архиеп. Никанор, видел возможность выхода философии из кризиса через теоцентрическое развитие позитивизма.
В 1876 г. на страницах журнала «Православный собеседник» вышла статья П. А. Милославского под названием «По поводу народного издания “Leben Jesu” Штрауса в Германии и Франции», в которой автор критикует книгу Штрауса, опровергающего возможность чудес, сотворенных Христом. Милославский отмечает, что если ученый пытается объяснить идею Бога, то он обязан «не факты подгонять к нашей идее о Боге и отрицать их вместе с нею, в случае их взаимного противоречия, а наоборот, мы должны идею согласовать с фактами, не отрицая ничего без разбору, хотя бы по степени и по объему нашего научного понимания и миросозерцания мы находили необъяснимое противоречие» [Милославский, 1876б, 88].
Вопросам физиологического редукционизма посвящена статья Милославского «Закон сохранения силы и душевные явления», вышедшая в свет в 1877 г. В этой работе он критикует гипотезу о единстве душевного и механического движений. По его мнению, «отождествлять душевные явления с механическими, или сводить одни из них на другие по закону сохранения, и теоретически и эмпирически есть абсурд, метафизическая нелепость» [Милославский, 1877б, 315]. В том же году на страницах журнала «Православное обозрение» выходит статья его «Современная ученость и христианство», в которой философ обращается к анализу работы американского ученого Джона Уильяма Дрэпера «История столкновения между религией и наукой».
Тут важно отметить именно в институциональном плане: «Православное обозрение» являлся московским журналом, одним из редакторов-основателей которого был прот. Петр Преображенский, однокашник архиеп. Никанора по Санкт-Петербургской духовной академии. Проповеди архиеп. Никанора постоянно появлялись на страницах «Православного обозрения». И вполне очевидно, что появление статей Милославского в «Православном обозрении», а не в «Православном собеседнике» (журнале КазДА), связано с рекомендацией архиеп. Никанора. Из философов КазДА после текстов Милославского публиковались в иногородних журналах только статьи В. А. Снегирева (в харьковском журнале «Вера и разум» в начале 1890-х) и М. Н. Ершова (в «Богословском вестнике» МДА, в 1911 г.). То есть в случае с Милославским можно видеть достаточно четкое влияние институциональных аспектов функционирования учреждений или организаций, обеспечивающих развитие, воспроизводство и функционирование философского знания.
В 1879 г. на страницах журнала «Православный собеседник» вышла статья П. А. Милославского под названием «Наука и ученые люди в русском обществе», которая была реакцией на работы Михайловского и Цитовича. Отвечая им, Милославский пишет, что развитие науки и культуры России отличается от западноевропейского. По его мнению, русская культура и наука развиваются толчками, ощущая при этом постоянное влияние Запада. Философ упрекает в инертности своих современников, считающих, что для развития русской мысли всегда нужные внешние раздражители. В статье он пишет, что «русские на высоте своего современного развития остаются славянами без славянской оригинальности и самостоятельности и живут европейцами без европейской жизненности и устойчивости» [Милославский, 1879а, 114].
П. А. Милославский пишет об общественном сознании, которое зависит от успехов науки, которые воспринимаются более развитыми представителями общества и передаются другим членам этого общества. Общественное сознание, по мнению философа, пронизывает все стороны общественной жизни — религиозную, умственную, социально-политическую. Общественное сознание — это понимание обществом всех сторон своей жизни [Милославский, 1879а, 116].
Итогом философских поисков Милославского стал труд «Основания философии как специальной науки» (1883). Он был удостоен Советом Казанской академии Мака-рьевской премии и, по сути, стал самым крупным и последним философским произведением ученого.
Основные идеи труда Милославского
«Основания философии как специальной науки»
«Основания философии…» П. А. Милославский писал, судя по всему, достаточно долго. Некоторые из его статей, например «Происхождение и значение философии» (1879) и «Позднее слово о преждевременном деле» (1879), являются прямыми подступами к его главному труду. Так, ключевую свою идею «концептивных ощущений»
Милославский соотносит с учением архиеп. Никанора о «внутреннем душевном чувстве». И это неудивительно именно в том смысле, что статья Милославского «Позднее слово…» представляет собой рецензию на первые два тома трактата архиеп. Никанора «Позитивная философия и сверхчувственное бытие».
В своих «Основаниях философии…» Милославский определяет основные задачи философии. Первая задача философии — классификация различных явлений знания и правильное, точное их описание [Милославский, 1883, 417]. Вторая задача философии именно как науки — определение связующих явления знания, законов, их открытие, выяснение, выражение и внесение в общенаучный «кодекс» [Милославский, 1883, 420]. Высшей задачей философии Милославский считает поиск общей связи найденных законов явлений знания на основе всех предшествующих исследований, выработку цельной научной теории этих явлений в соответствии с совокупностью всех научных знаний [Милославский, 1883, 420].
Как отмечал профессор КазДА И. С. Бердников, основной труд Милославского «представляет собой серьезную попытку построения метафизики по новому методу, принятому точным знанием» [Б. а., 1884б, 427]. Влияние позитивизма на теистическую, по сути, концепцию П. А. Милославского несомненно и хорошо было заметно коллегам по Академии. Это оказалось очевидно и для позитивиста В. В. Лесевича, написавшего отзыв на «Основания философии…» Милославского.
Лесевич не принимает метафизической позиции Милославского и подозревает того в предвзятом использовании позитивизма: «Прочтите хоть ту главу, которая специально посвящена метафизике (с. 130-143), и вам наверное покажется, что вы присутствуете при отпевании этого пережитого миросозерцания. Не торопитесь, однако, делать заключения: автору остается еще 300 страниц для того, чтобы спутать все это и проделать все возможное для завлечения вас в темнейшие дебри темного метафизического царства. От понимания у него один скачок к постижению, а затем вы уже в объятьях абсолюта… А между тем вы только и слышите, как автор клянется Кантом, Ог. Контом, Гельмгольцем. Беном… Кем он только не клянется, чье имя не призывает всуе? И выходит, что его философия и есть де самая настоящая критическая, самоновейшая и патентованная научная философия…» [Лесевич, 1883, 186].
Лесевич указывает на то, что Милославский пытается обосновать понятие постижения в противовес познанию и пониманию. И от гносеологии переходит к онтологии, обосновывая существование абсолютного бытия. Как отмечал проф. Бердников, Милославский пытался рассеять предубеждения против метафизики, пытаясь воссоздать ее на началах, сообразных новым научным требованиям и открытиям в области опытных наук [Б. а., 184б, 427].
Интересно свидетельство свящ. М. Бажанова, слушавшего лекции П. А. Милославского, о том, что тот часто употреблял термин «вещи знания», которым обозначал вещественные продукты знания, например, произведения изящных искусств, архитектуры и тому подобное, чтобы отличить произведения чистой мысли, не имеющие пластического образа для себя и наглядного выражения в каком-нибудь веществе. Это важно с точки зрения того, что тут Милославский говорит об опредмеченном знании. Этот момент потом станет одним из важнейших в понимании процесса объективации у В. И. Несмелова.
Все человечество и каждый человек в отдельности, материальные формы человеческой культуры и язык в частности, по мнению Милославского, могут быть признаны субстанциями, то есть вещами. Параллельно со всеми другим вещами и явлениями в мире люди и их язык, письмо, и различные формы культуры представляют собой нечто постоянное, устойчивое. А вот ощущения, представления и понятия постоянно меняются, переходят из одного состояния в другое, колеблются между неисчерпаемыми различиями и противоположностями, между истиной и ошибкой [Милославский, 1883, 86]. Ошибочна, при этом, часто бывает наука. А вот вера как раз дает истинное знание. По мнению Милославского, многие явления, непонятные человеку, могут быть объяснены верой, так как христианское учение как раз и позволяет устранить пробелы, связанные с невозможностью объяснить те или иные явления человеческого бытия [Милославский, 1883, 164].
По П. А. Милославскому, философы прошлого, основываясь на своих представлениях, понятиях, чувствах, желаниях и вообще душевных состояниях, пытались найти какую-либо общую идею, которую потом переносили на весь мир. Получалось, что в своих системах они постоянно «списывали» весь мир только с самих себя, вообще с человека. В мыслящей и протяженной субстанции Декарта, в субстанции Спинозы, в «я» Фихте, в Абсолютной идее Гегеля, в воле и представлении Шопенгауэра, в бессознательном Гартманна, в энергии или силе материалистов, по мнению Милославского, несмотря на всю отвлеченность этих философских начал, нетрудно разглядеть философские портреты, копии с самого человека, взятого отвлеченно, без отношения к живому действительному миру, вне биологических и социально-исторических условий [Милославский, 1883, 164].
В обычном, донаучном и вненаучном мышлении вещь есть каждый единичный и конкретный предмет со своими наиболее постоянными, непосредственно видимыми и осязаемыми качествами, а явление — всякое событие среди постоянных качеств предмета, происходящее в определенное время и в определенном пространстве. Следовательно, вещь есть видимый и осязаемый «кусок» бытия, а явление — все, что по временам делается с этим «куском», отдельно от других. Такое понимание мира философ называет наивно-реалистическим воззрением, поэтому с научной точки зрения оно оказывается несостоятельным и непригодным. В научном сознании и мышлении, по мнению Милославского, дело принимает иной вид.
Вещь не просто единичный предмет, «кусок», с постоянными качествами, а есть нечто сложное в порядке природы и связанное во времени и пространстве существование, не ограниченное видимыми и осязаемыми качествами и не замкнутое от всех других вещей-существований. Явление — не только событие в предмете, происходящее в отрывке времени и пространства и непосредственно заметное, но и скрытое от ненаучного понимания изменение в предмете, постоянное в порядке природы, преемственное во времени и пространстве [Милославский, 1883, 205].
По мнению философа, в научном и философском сознании различные вещи и являются, и возводятся к некоторым общим началам, субстратам, выражаемым в понятиях вещества или материи, силы или энергии, духа, бессознательного и прочего [Милославский, 1883, 205]. В этом смысле закон сохранения энергии Милославский называет единственным началом, которое полностью и насквозь связывает все явления природы без всякого исключения или ограничения. В центр этих явлений он ставит человека, утверждая, что человек живет «в кругу одних и тех же общемировых явлений, под одними и теми же законами сохранения энергии и вещества» [Милославский, 1883, 355].
Человек же, по мнению философа, «обнаруживает в своем цельном существовании и связных изменениях не только движение, теплоту, электричество, химические сложения и разложения, а еще имеет волю, чувствует, сознает и познает сам себя и великий мир» [Милославский, 1883, 355].
В материальном мире, по мнению философа, сохраняется определенный ряд явлений энергии: механических, тепловых, световых, электрических, магнитных, химических. В животных к этим явлениям прибавляется новое звено — явления сознания или душевные. В человеке это новое звено, развиваясь в явления знания, научно-философской мысли, нравственных и эстетических чувств, желаний и действий, становится чисто человеческим, выделяет человека из всей остальной природы [Милославский, 1883, 266].
Несмотря на то, что первоисточником всех явлений Милославский называет энергию и закон сохранения энергии, он не соглашается с мнением психофизиологов о том, что душевные явления также подчиняются закону сохранения энергии, так как требуют затрат энергии. Он утверждает, что душевные явления не требуют дополнительной кинетической энергии [Милославский, 1883, 368–369]. Следовательно, душевные явления появляются и развиваются иначе, чем все остальные явления бытия. Он склоняется к мысли, что душевные явления связаны с верой человека в Бога, с его стремлением к познанию мира, к высшему Абсолюту, поэтому объяснить их чисто физическими терминами невозможно.
Так или иначе, Милославский предлагает посмотреть на человека как на часть мироздания. То есть не мир оказывается функцией человеческого познания, а человек — частью мироздания. «Человек живет в мире не один, он субъект только сам для себя, а для всех других, как и всякий другой для него — объект, существующий и познаваемый, как и другие объекты природы» [Милославский, 1883, 245]. Подтверждая свое понимание места человека в мире, он утверждает, что «человек не чистое „я“, не абсолютный субъект, а сложная часть одного и того же объективного мира» [Милославский, 1883, 245].
И именно от этого мира вещей в познании действительности философ должен идти к Абсолютному. Не от Абсолютного к явлениям, как указывала «старая» философия, а от явлений — к Абсолютному, поскольку стремление к нему «обусловливается природным стремлением человека к высшим идеалам существования и знания сравнительно с тем, что есть и что известно в любое данное время, — к лучшей и счастливой жизни и деятельности, к лучшей, прекрасной и изящной обстановке, к лучшему, наибольшему и самому достоверному знанию» [Милославский, 1883, 425].
При этом мышление само по себе не увеличивает знания, а устанавливает только связи между известными фактами, но новые факты, познание неизвестного приобретаются только чувствами [Милославский, 1883, 8].
Милославский считал, что объектом философского исследования должно стать не столько самосознание человека и его познавательные способности, сколько результат их действия, так называемые «явления знания», доступные человеку в непосредственном концептивном ощущении, отличном от других видов ощущений. Они, как и другие явления природы, подчинены закону причинности.
По мнению философа, знание существует вместе с человеком в том же мире, который мы называемым объективным, физическим. Чтобы изучить и знать это явление, не нужно выдумывать систему бытия и знания, не нужно перестраивать действительный, физический мир в метафизический, то есть только в мыслимый. Необходимо изучать знание просто как факт объективного мира [Милославский, 1883, 204].
Милославский делает следующее заключение: «Чего человек не ощущает и не представляет, того назвать не может словами» [Милославский, 1883, 110]. Следовательно, в словах объединяются или означаются явления знания со всеми вещами и явлениями природы. Выражая или обозначая словами явления своего знания, человек в то же самое время обозначает и то, что им познается [Милославский, 1883, 112].
Знание существует в физических, в душевных и во всех других явлениях природы. Знание в самом своем начале есть явление в человеке, происходящее с сознанием его предшествующего во внешнем для человека мире, или в его собственном организме, не исключая всех предшествующих явлений природы и явлений знания [Милославский, 1883, 228]. Относительно философии же Милославский пишет: «Философия есть наука, исследующая явления человеческого знания в их общемировых отношениях и причинной связи и определяющая законы этой связи» [Милославский, 1883, 430]. В качестве науки о явлениях человеческого знания философия вбирает в себя все, что в человеке и в человеческом сообществе (социуме) есть человеческого [Милославский, 1883, 433].
Рассуждая о механизме явлений знания, Милославский приходит к мысли о том, что известные разновидности ощущений не могут в полной мере объяснить сущность явления знания. Анализируя физиологические и психологические данные о представлениях и ощущениях, Милославский обращается к понятию «понимание», которое он называет концептивным ощущением. Органами этих ощущений он называет по преимуществу органы зрения и слуха, а возбудителями — язык и вообще материальные и механические сочетания, выражающие человеческие представления [Милославский, 1883, 278].
Каждый случай наблюдения человека над самим собой включает центральные возбуждения и концептивные ощущения. Намеренное наблюдение за внешним миром, по мнению философа, тоже включает не только внешние возбуждения, но и состояния сознания, и потому сопровождается центральными возбуждениями и концептивными ощущениями [Милославский, 1883, 287]. Милославский пишет, что общество и отдельные личности не могли бы развиваться, если бы знания, развивающиеся в людях, не овеществлялись бы в определенных постоянных сочетаниях и передвижениях вещества, в продуктах культуры [Милославский, 1883, 241]. Он считал, что явления знания, начав свое существование в материальной среде человеческого организма, среди других явлений продолжают существовать и сохраняют определенный порядок в известной мере независимо от существования и строя природы вообще и самого человека в частности, как это особенно ясно выражается в человеческих фантазиях, теоретических и практических заблуждениях [Милославский, 1883, 231].
Выше уже отмечалось, что согласно Милославскому, «Всякое знание, какое только до сих пор развивалось, начиная от первобытных времен, воплощается и сохраняется в культуре и больше всего в языке человека» [Милославский, 1883, 21]. При этом «среди людей знание развивалось и накапливалось, переходило в историю, а в среде животных нет» [Милославский, 1883, 23]. Эта проблематика и такое понимание знания напрямую отсылает нас к пониманию знания у В. А. Снегирева.
По мнению Милославского, человек не обладает существенной физической силой, поэтому для сохранения своей жизни пользуется знаниями, что является одним из его преимуществ среди других живых существ. Без знаний в природе человек бессилен и беспомощен [Милославский, 1883, 26]. Вся история человечества и всесторонние антропологические исследования показывают, что человек по самому своему духовно-телесному складу и естественному положению в природе обречен на труд знания и усовершенствования [Милославский, 1883, 34].
Но то, что развитие знания философ связывает со способностью человеческого сознания различать ощущения, которые помогают ему выделять противоположности, — это положение делает его позицию максимально близкой Снегиреву. П. А. Милославский приходит к мысли, что эта способность человека позволяет давать тем или иным явлениям окружающего мира нравственную оценку [Милославский, 1883, 31]. Следовательно, в основу нравственности он ставит способность человека различать существующие в мире противоположности. Сознание различий и противоположностей в самом знании, по мнению философа, составляет отличительную черту человека [Милославский, 1883, 43].
Такова общая характеристика основного труда П. А. Милославского. Несомненно, при дальнейшем развитии этих идей история русской философии могла бы получить интереснейшую систему. Но именно на тех же основаниях — на понимании человека как отправной точки философствования, на анализе функционирования знания в мире, на опоре на позитивизм в обосновании существования абсолютного бытия — будет строиться философская система самого выдающегося и известного казанского философа Виктора Ивановича Несмелова. И именно эти основания показывают, что ключевой особенностью казанской духовно-академической философии, представленной в первую очередь именами архиеп. Никанора (Бровковича), В. А. Снегирева, В. И. Несмелова, оказывается опора на позитивизм в стремлении доказать, что в нем есть потенциал для развития теоцентрической метафизики.
Список литературы Идеи П. А. Милославского в контексте Казанской духовно-академической философии: от исторической апологетики к теоцентрическому позитивизму
- Антоний Вадковский (1884) — Антоний (Вадковский), архим. Речь архимандрита Антония, сказанная на литургии пред погребением П. А. Милославского // Православный собеседник. 1884. Т. 1. С. 421-425.
- Б. а. (1884а) — Б. а. Две преждевременные кончины // Православный собеседник. 1884. Т. 1. С. 418-420.
- Б. а. (1884б) — Б. а. Речи, сказанные при гробе усопшего доцента академии Петра Алексеевича Милославского, 20 марта 1884 года // Православный собеседник. 1884. Т. 1. С. 426-449.
- Журавский (1999) — Журавский А.В. Казанская духовная академия на переломе эпох (1884-1921 гг.). Дис. . канд. филос. наук. М., 1999. 301 с.
- Зефиров (1893) — ЗефировЕ.А. Мои воспоминания о преосвященном Никаноре за время его пребывания на Уфимской кафедре (1877-1884гг.) // Странник. 1893. Т. 3. Декабрь. С. 718-725.
- Знаменский (1891) — Знаменский П. В. История Казанской Духовной Академии за первый (до-реформенный) период ее существования (1842-1870 годы). Вып. 1. Казань, 1891. 380 с.
- Лесевич (1883) — ЛесевичВ.В. Философская ипохондрия // Отечественные записки. 1883. № 12. С. 192-212.
- Милославский (1873) — Милославский П.А. Древнее языческое учение о странствованиях и переселениях душ и следы его в первые века христианства // Православный собеседник. 1873. Т.1.С.261-302, 348-389, 443-482; Т.П.С.107-174, 236-262; Т.Ш.С.52-83, 213-275, 389-437. (Было издано отдельным оттиском).
- Милославский (1875а) — Милославский П.А. Немецкая интеллигенция (Письма из за границы) // Православный собеседник. 1875. Т. I. С. 187-203, 419-433; Т. II. С. 139-150, 429-440; Т.Ш.С. 110-121.
- Милославский (1875б) — Милославский П.А. Современное учение о субстанциях (Пробная лекция по метафизике) // Православный собеседник. 1875. Т. II. С. 401-421.
- Милославский (1876а) — Милославский П.А. Типы современной философской мысли в Германии // Православный собеседник. 1876. ТЛ.С.198-218, 243-298, 460-497; 1877. Т. I. С. 3-28, 259-281; 1878. Т. I. С. 153-193, 275-314, 363-399; Т. II. С. 64-111.
- Милославский (1876б) — Милославский П.А. По поводу народного издания «Leben Jesu» Штрауса в Германии и Франции // Православный собеседник. 1876. Т. I. С. 77-88.
- Милославский (1877а) — Милославский П.А. Современная ученость и христианство. — По поводу книги Дрэпера «История столкновения между религией и наукою» // Православное обозрение. 1977. Т. I. С. 111-151.
- Милославский (1877б) — Милославский П.А. Закон сохранения силы и душевные явления // Православное обозрение. 1877. Т. III. С. 275-318.
- Милославский (1879а) — Милославский П.А. Наука и ученые люди в русском обществе (по поводу толков, возбужденных г. Михайловским и проф. Цитовичем) // Православный собеседник. 1879. Т. 1. С. 111-149.
- Милославский (1879б) — Милославский П.А. Позднее слово о преждевременном деле (Страница в истории русской философской мысли) // Православное обозрение. 1879. Т. I. С. 265-292; Т. III. С. 500-522.
- Милославский (1879в) — МилославскийП.А. Происхождение и значение философии // Православное обозрение. 1879. Т. III. С. 232-266.
- Милославский (1883) — Милославский П.А. Основания философии как специальной науки. Казань, 1883. I-IV, 443, I-II с.
- Никанор Бровкович (1888) — Никанор (Бровкович), архиеп. Позитивная философия и сверхчувственное бытие. Т. III. СПб., 1888. 498 с.