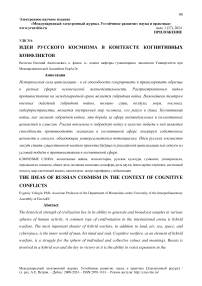Идеи русского космизма в контексте когнитивных конфликтов
Автор: Вологин Е.А.
Статья в выпуске: 1 (37), 2024 года.
Бесплатный доступ
Историческая сила цивилизации - в её способности генерировать и транслировать образцы в разных сферах человеческой жизнедеятельности. Распространённым видом противостояния на международной арене является гибридная война. Важнейшим театром военных действий гибридной войны, помимо суши, воздуха, моря, космоса, киберпространства, является внутренней мир человека, его разум и душа. Когнитивная война, как элемент гибридной войны, это борьба за сферу индивидуальных и коллективных ценностей и смыслов. Россия вовлечена в гибридную войну и залогом победы в ней является способность противостоять экспансии в когнитивной сфере генерируя собственные ценности и смыслы, обладающие универсалистским потенциалом. Идеи русских космистов могут стать существенной частью проекта будущего российской цивилизации как одного из условий победы в противостоянии в когнитивной сфере.
Когнитивные войны, психоистория, русская культура, гуманизм, универсализм, персонализм, космизм, общее дело, активная эволюция, ноосфера, роль науки, homo sapiens explorans, системный подход, мир-системный анализ, капитализм, центр-периферия, глобализация
Короткий адрес: https://sciup.org/14131162
IDR: 14131162 | УДК: 316
Текст статьи Идеи русского космизма в контексте когнитивных конфликтов
вып. 1 (37), 2024
Знания, идеи, экономика знаний есть важнейшая часть ойкумены любой культуры и цивилизации. Историческая сила цивилизации – в её способности генерировать и транслировать образцы в самых разных сферах человеческой жизни, парадигмальные смыслы, создавая предпосылки для обладания представителями этой цивилизации интеллектуальным превосходством в психоисторических баталиях, которые сопровождают человечество на протяжении всей его истории, в войнах смыслов, в конкуренции различных концептов будущего, а значит, и за власть над настоящим. Россия как правило достойно справлялась с внешними вызовами военно-политического характера, но проигрывала в психоисторических противостояниях, когда фундаментальные для устойчивости российского государства смыслы размывались чуждыми деструктивными философемами и идеологемами, а их носителями часто становились представители правящего класса страны и её гуманитарной элиты. Российское государство, вследствие этого, поражалось изнутри: разрушение системы смыслов неизбежно влекло за собой и разрушение системы управления.
В настоящее время всё более важным видом боевых действий становится гибридная война, при которой поле боя тождественно бытию человека во всей его необъятной целостности. Театром военных действий гибридной войны, помимо суши, воздуха, моря, космоса, киберпространства, является внутренней мир человека, его разум и душа, то есть, глубинный уровень индивидуальности в котором осуществляется генезис идей, ценностей, смыслов, самих основ мировоззренческих парадигм личности. Борьба за индивидуальное cogito в информационную эпоху стала ключевой точкой приложения усилий тех, кто ведёт гибридную войну. Когнитивная война, как элемент гибридной войны, это борьба за сферу индивидуальных и коллективных ценностей и смыслов.
Когнитивную войну можно определить как комплекс определённых действий, направленный на изменение картины мира индивида или общества, а также представителей политической и культурной элиты государства, прежде всего лиц, принимающих решения.
При этом речь идёт не столько о манипулировании информацией, сколько о том, что есть информация как таковая в тот или иной отрезок времени и как она воспринимается. Вопрос о об истине принципиально не ставится, равно как и о правде. Речь идёт об «истинности» и «правдивости» в представлении индивидуального или коллективного объекта информационного воздействия, о внушении разными средствами – техническими и психологическими – нужного представления объекту воздействия о реальности, своём месте в ней и своих действиях в ситуационном контексте, формируемом намеренно методами информационного и психологического воздействия. Это может достигаться путём изменения языка, стиля мышления, взглядов, ценностей, духовных/социальных скреп, фундамента мировоззрения, индивидуального и коллективного понимания того, то такое хорошо и что такое плохо от сферы личных взаимоотношений до общественной морали, религии, веры, идеологии. Это изменение основ и принципов мировоззрения целых обществ и относящееся к области нейробиологии и социальной инженерии.
Перед теми, кто ведёт когнитивную войну стоит задача: взять под контроль коллективную ментальность, посредством повреждения человеческой психики и коллективного сознания, сломать, разрушить человеческую идентичность и заменить её на ту, которая необходима. То есть, сначала разрушение психики, а потом наложение новой реальности. Для тех, кто ведёт когнитивную войну важно сделать из объекта воздействия агента собственных интересов причём таким образом, чтобы объект воздействия не подозревал что им манипулируют и действовал согласно собственным убеждениям, которые бы он воспринимал как приобретённые сознательно и свободно. Эти задачи решаются путём манипулирования ценностями и смыслами. Эмигрант из СССР в США математик (выпускник мехмата МГУ) и психолог (защитил кандидатскую диссертацию на факультете психологии МГУ) В.А. Лефевр создал концепцию рефлексивного управления. Он разрабатывал методики о навязывание объекту стремления к каким-либо действиям, но, чтобы объект на понимал и не знал, что ему нечто навязано, чтобы он думал, что это его собственные идеи и стремления, чтобы у объекта не было даже осознания того, что существует какой-то субъект, который манипулирует им. Это, так сказать, задача максимум.
Таким образом, основными задачами когнитивной войны являются: во-первых, деконструкция символов коллективной идентификации, то есть «духовных скреп» или государственно-ориентированных нарративов; во-вторых, деконструкция исторической памяти, комплекса представлений о том, что ты помнишь и как ты это объясняешь, в-третьих, разрушения смыслового поля традиции и культуры, к которой изначально принадлежит объект, в-четвёртых, заполнение исторической памяти удобными субъекту когнитивной войны образами и символами. Решение этих задач достигается посредством отключения, блокировки критического мышления и погружения объекта воздействия в альтернативную реальность, возможно, в виртуальную реальность как область манипуляции на трёх уровнях осмысления бытия 1) оперативном, посредством замены способов осмысления себя и ответов на вопросы «кто мы», «что мы?»; 2) тактическом «какова – как народа, государства, общества – идея нашего существования, какова наша миссия в мире/жизни»; 3) стратегическом, то есть где происходит замена социальных рефлексов, культурных ценностей и смыслов. В целом, речь идёт о трансформации индивидуального и социального существования и сущности. Тот, кто предложит собственную версию ответов на возникающие у человека в процессе его социализации и жизнедеятельности экзистенциальные вопросы, тот будет иметь существенные преимущества для контроля и управления ходом когнитивных процессов, решающим образом влияя на формирование исторических эпистем и дискурсивных практик. При этом субъекту социальной инженерии следует учитывать культурные коды, но опыт в том числе и отечественной истории показывает, что степень их влияния хоть и несомненна, но является величиной переменной и регулируемой.
Исторический опыт показывает, что управление когнитивностью должно подразумевать умение сочетать антиномии и умение работать с парадоксами, учитывать многомерность процесса познания, особенности коллективной и индивидуальной самоидентификации. Это означает умение вести работу с коллективным бессознательным, которое может проявляться в особенностях культурных кодов этнических, географических, конфессиональных и цивилизационных общностей, быть способным к качественному, содержательному, сущностному определению и переформатированию различных областей знаний.
Управление когнитивными процессами посредством использования технологий социальной инженерии было проанализировано, в частности, французским философом М. Фуко. Анализируя главным образом западноевропейский исторический опыт, он соотносил формирование и использование политической властью технологий достижения власти над знанием посредством управления когнитивными процессами. Власть как таковая, поскольку имеет своей целью господство, стремиться формировать общественную и индивидуальную реальность, то есть экзистенцию, телесность, представление о времени, области практики и интерсубъективность, классифицировать и ранжировать объекты познания, а также ритуалы приобщения к знанию. Как правило, «власть-знание» не является привилегией одного лица или одного института. Она может представлять коллективный субъект и не иметь формального центра, не являться привилегией только лишь государства. Она может отождествляться формально с не государственными учреждениями, например, интеллектуальными центрами, аффилированными со спецслужбами, бизнес-сообществами, влиятельными социальными группами в которые входят представители аристократии, кланов и корпораций, бывшие государственные служащие и религиозные деятели.
М. Фуко выделяет три области исследований возможности возникновения и существования культурных феноменов, когнитивных a priori, смысловых оснований самоидентификации и самоконституирования: во-первых, это историко-ментальные особенности самоконституирования человека как субъекта познания и выяснение, что есть «знание» как таковое, как оно возможно и как структурировано, также определение человеком того что есть Истина, возможно ли её познать и если возможно, то каким образом; во-вторых, это отношение человека к власти и иерархии, к господству, самоконституирование человека как элемента иерархии и субъекта действия на других; в-третьих, отношение человека к морали, сверхличным ценностям, особенности самоконституирования как этического субъекта [Фуко М., 2004г.] .
Субъект «власти-знания» и есть субъект, инициирующий когнитивную войну. Он должен быть способен к стратегическому планированию, управлению сложностями и антиномиями, осуществлению проектно-конструкторской деятельности потенциально в мировом масштабе на основе выработанных структур рационального знания, универсалистский потенциал которых очевиден. Субъект «власть-знание» должен не просто быть способен анализировать закономерности исторического процесса, а также закономерности осуществления массовых процессов и поведения социальных групп, но и формировать универсальные философско-методологические подходы для подобного анализа, предлагать и отстаивать научно-исследовательские тренды. Субъект «власть-знание» для управления когнитивными процессами должен осуществлять контроль над информацией: как над процессом её появления, селекции, дешифровки, интерпретации, так и над процессом её распространения.
Для успешного проведения когнитивных операций необходимо наличие двух важных условий: во-первых, способность внушать объекту воздействия реалистичность и обоснованность предлагаемых ответов на вопросы, которые у него возникают от повседневнообыденных до экзистенциальных, при этом варианты предлагаемых ответов должны интерпретироваться и казаться объекту как обоснованные и оптимальные, они должны выдерживать рациональную проверку или, как минимум, формировать ощущение, иллюзию рационального выбора; во-вторых, предлагаемые ответы должны выдерживать научную – в представлении субъекта – верификацию. Наличие этих двух условий представляет собой страховку от критики со стороны противоборствующей когнитивному воздействию стороны. Объект должен осознавать, что его выбор оптимален и обоснован с точки зрения здравого смысла. Таким образом в когнитивных войнах науке принадлежит очень важная роль в чём у субъектов «власти-знания» была полная убеждённость: «Социальные психологи будущего будут вести различные классы школьников, на которых они будут отрабатывать различные методы выработки уверенности, что снег чёрный…. Во-первых, будет доказано, что семья мешает. Второе – обработка не даст существенных результатов, если она начнётся после десятилетнего возраста. Третье – стихи, положенные на музыку с повторами, очень эффективны. Четвёртое – мнение, что снег белый, нужно считать проявлением болезненной склонности к эксцентричности…. Хотя эту науку будут прилежно изучать, доступ к ней будут иметь исключительно представители правящего класса. Простолюдины не будут знать, как формируются их убеждения. Когда техника будет отточена, любое правительство, управляющее образованием на продолжении жизни одного поколения, сможет надёжно контролировать своих подданных без нужды в армии и полиции» [Катасонов В.Ю., 2020г.]. История Европы ХХ века показывает, что самые чудовищные химеры массового сознания внедрялись при активном научном обосновании. Ссылка на научность, помимо придания внушаемым аргументам убедительности ещё и формирует у объекта представление об обоснованности и естественности его веры в истинность внушаемого.
Одной из стратегий власти по овладению контролем над когнитивной сферой является эмансипация сознания интеллектуальной элиты. Страта интеллектуалов всегда в большей степени, чем представители других слоёв общества, стремиться к обретению творческой свободы как важнейшего условия плодотворности духовных исканий. Подобное стремление имеет и общепозитивное значение так как способствует устранению барьеров догматизма и расширению умственных горизонтов, что в свою очередь является условием прогресса знания, культуры и общества в целом. Поэтому интеллектуальные сообщества всегда являлись чрезвычайно значимым элементом системы «власти-знания».
Эмансипация сознания подразумевает внутреннее преодоление индивидом власти табу над собой и своим внутренним миром, и вообще разрушение власти табу, свойственной национально-культурной традиции, критическое отношение к ценностям архаики как к устаревшим, препятствующим развитию, а, следовательно, утратившим позитивную значимость в условиях современности. Индивидуализация и рационализм являются как следствием эмансипации сознания, так и вполне самостоятельными метанарративами, экзистенциальную значимость которых очень непросто подвергнуть сомнению именно в контексте секулярности и плюрализма. Причём, эта значимость воспринимается как естественная и положительная. Проблемность может возникнуть из-за нюансов их интерпретации и практического претворения в жизнь.
Растабуирование интимной сферы жизни человека является важным элементом стратегии управления когнитивными процессами. Сексуальная сфера сначала лишается покрова тайны, затем превращается в объект всё более пристального внимания и всё более изощрённой интерпретации как суверенной практики индивидуального «искусства существования». Затем культивируется поощрение эгоцентрически понимаемой свобода и нарочитая открытость для чего создаются соответствующие культурные установления, социальные механизмы и юридические гарантии. Секулярная культура, как естественное следствие растабуирования мира, сперва определила сферу тьмы и её обитателей – демонов – как суеверие, архаичный и преодолеваемый изъян индивидуального сознания, а после поместила их в человеческую природу, в подсознание, побуждая человека примириться с их существованием как с чем-то естественным тем самым закрепляя оторванность человека от ценностей традиционной культуры и духовных оснований личности.
Лишение покрова тайны, целенаправленное растабуирование сферы сексуальных отношений и утверждение в общественной культуре новых практик самоидентификации означало, что для человека открывается возможность наполнения индивидуального бытия персонализированными этическими и эстетическими ценностями к чему общество должно было относится толерантно. Изменение представлений о природе сексуальности на основе эмансипированности сознания и тотальной растабуированности мира означало также определённое переструктурирование аппаратов власти и нового проекта телесных практик, определяемого размещением инстанции субъективности в самом человеке. Инстанция эмансипированной субъективности стала трактоваться в качестве основы личной самоидентификации. Толерантное, хотя «толерантность» как разновидность общественнополитической практики в данном случае не более чем манипулятивная технология, отношение со стороны «власти-знания» к тому, что традиционная культура трактовала как греховные отклонения и как признаки метафизического зла, тоже представляет собой технологию управления только теперь уже под предлогом защиты прав всевозможных меньшинств.
Для управления когнитивными процессами эмансипированность сознания важна поскольку предполагает возможности для человека, как носителя индивидуализированного сознания, «обрести себя», стать «самим собой» именно за счёт преодоления заданных традицией религиозно-этических стандартов поведения, что облегчает манипуляцию как отдельным индивидом, так и целыми сообществами. Культурные коды, опирающиеся на национально-культурную традицию, на священное для народа Предание и соответствующие когнитивные практики препятствуют манипулированию сознанием. Общности, состоящие из эмансипированных индивидов, обитателей урбанизированных пространств, оторванные от культурных истоков и олицетворяющие «одинокую толпу» [Riesman D., Glazer N., Denney R., 2020г.] , представляют собой гораздо более податливый объект для управления и манипуляции. Управление когнитивными процессами иногда имеет облик психоисторических операций, когда для взятия под контроль «властью-знанием» определённого исторического субъекта сначала происходит целенаправленное разрушение системы смыслов, а затем разрушение и системы политического управления. Но посредством управления когнитивными процессами возможен запуск и обратного процесса – процесса социально-культурного созидания, что также не раз случалось в истории нашей страны.
В психоисторической, то есть, когнитивной, войне – войне смыслов стать заложником ложных и разрушительных нарративов в цивилизационно-историческом отношении означает погибнуть, несмотря на то что эти нарративы могут казаться вполне логически обоснованными и убедительными. Так, в 1972 году Римский клуб опубликовал коллективный Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика [Электронный ресурс] / гл. ред. А.Е. Петров. – Дубна : 2008-2024. – ISSN 2076-1163. – Режим доступа: доклад об экономических и демографических перспективах человечества «Пределы роста», в котором, по сути, развивались идеи мальтузианства/неомальтузианства. Глобальные экологические инициативы Римского клуба, ограничение рождаемости, промышленного производства, снижение количества и качества потребления в совокупности должны привести к искусственному замедлению экономического роста стран периферии/полупериферии, то есть не относящихся к цивилизационному ядру коллективного Запада и являющихся объектом сверхэксплуатации труда. Термин «сверхэксплуатация труда» был введён бразильским экономистом Руем Мауру Марини в его труде «Диалектика зависимости» (1972 г.) для обозначения компенсации финансово-экономических потерь, которая экономика страны-периферии/полупериферии несёт вследствие неэквивалентного обмена со странами ядра [Баринов Д. А., Павлов Р. А., 2023г.].
Иными словами, согласно распространяемым глобалистами Римского клуба нарративам в недалёком будущем в мире не должно существовать технологично развитых постиндустриальных экономик кроме как в странах ядра коллективного Запада. Всё должно произойти во имя блага всего человечества, ради выживания людей. Это можно считать примером того, как методологически выверенные, логично обоснованные, или претендующие на логическую обоснованность, нарративы, нацеленные на формирование соответствующих дискурсивных практик на основе которых могут быть приняты соответствующие политические решения, способны формировать искажённое восприятие реальности потенциально опасное для целого ряда государств и сообществ. Крах Советского Союза — это во многом результат психоисторической операции по внедрению в сознание советской политической и гуманитарной элиты концептов, которые, будучи реализованными, привели, по словам Президента РФ В.В. Путина, к «величайшей геополитической катастрофе ХХ века» прежде всего для исторической России и живущих в ней народов. Передовая экономика знаний особенно стране, которая, подобно России, претендует на экстраординарную роль в мире, необходима как раз для парирования подобных угроз психоисторического характера.
Россия на протяжении нескольких последних веков, то есть практически с самого начала воссоздания собственной суверенной государственности после ордынской зависимости, находится под более-менее интенсивным политическим, экономическим и психоисторическим давлением главным образом со стороны Запада в обличье Ватикана, Речи Посполитой, Швеции, наполеоновской Франции, Англии, США, различных блоков вроде
НАТО или гитлеровского евросоюза является обстоятельством постоянным и уже привычным.
Российский исторический опыт свидетельствует, что чем в большей степени Россия будет стремиться к полноценному суверенитету и обретению суверенной геополитической роли, тем более коллективный Запад будет стремиться этого не допустить в том числе используя методы, которые вполне можно трактовать как акты открытой силовой агрессии.
Капитализм является одной из причин западного экспансионизма и гегемонизма. История капитализма как экономической системы показывает, что его развитие в значительной степени носит экстенсивный характер. Развитие капитализма невозможно без постоянной подпитки капиталистической экономики дешёвыми ресурсами, дешёвой рабочей силой и свободными от протекционистских барьеров рынками сбыта. Данное обстоятельство, в свою очередь, означает естественную потребность капитализма в периферии или полупериферии. Выделение части территории планеты Земля в качестве периферии цивилизационного ядра Запада не представляло каких-либо серьёзных историософских препятствий, поскольку одной из существенных черт западного мировосприятия являлся европоцентризм – восприятие собственного исторического опыта как эталонного и универсального. Это не значит, что западный Логос не признаёт культурную суверенность иных цивилизаций и культур. Это значит, что, признавая право на существование цивилизации геополитического Другого, логос Запада воспринимает сущность этого Другого преимущественно с собственных мировоззренческих позиций, укоренённых в собственном историческом опыте. Данную коллизию хорошо показал, в частности, Эдвард Саид в своём известном труде «Ориентализм» [Саид Э.В., 2016г.] , а по отношению к России как таковой не зависимо от её конкретно-исторической ипостаси целый ряд западных мыслителе й /Биллингтон Дж. Г., 2001г.; Койвисто М., 2002г.; Ранкур-Лаферьер Д., 2003г.].
Таким образом, западная гуманитарная мысль обосновывала периферийность иных культур и цивилизаций не только посредством экономических аргументов, но и комплексно, философски: периферийность, то есть не прогрессивность и отсталость Другого, осмысливалось как онтологическое явление, как объективный факт мировой истории и несомненная реальность богоустановленного бытия. И будучи рационально подкреплённым этот аргумент использовался в психоисторических операциях с целью обоснования гегемонии
Запада и для когнитивной борьбы, когда военные, экономические и политические ресурсы были не достаточны для достижения западного доминирования.
Кроме того, неравенство заложено в самой основе капиталистических отношений. И речь здесь идёт не о неравенстве внутри капиталистического социума, но о неравенстве между различными странами-субъектами капиталистических отношений. О естественности феномена неравенства среди капиталистических стран в нач. ХХ века рассуждал ещё В.И. Ленин, например, в работах «О лозунге Соединённых Штатов Европы» и «Империализм как высшая стадия капитализма»: «… Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма» [Ленин В.И., 1973г.] . Примечательно, что данное мнение лидера большевиков разделяли отнюдь не только его идейные единомышленники, но и адепты либерально-буржуазных нарративов [ Нил Л., Уильямсон Дж., 2021г.]
В.И. Ленин и другие русские теоретики-марксисты, называя Россию «слабым звеном» среди капиталистических стран, под «слабостью» понимали не только социальноэкономическое и, как следствие, культурное отставание своей страны, сколько, по существу, исторически предопределённое, программируемое самой логикой развития в парадигме концептов эпохи Просвещения отставание России как капиталистической страны в силу природы капитализма как такового.
Мнение о том, что современный мир представляет собой иерархию «центр-периферия» причём «центр» как раз и есть цивилизационное ядро коллективного Запада, разделяли многие мыслители, принадлежавшие к разным идеологическим направлениям. Так, например, представители мир-системного анализа Иммануил Валлерстайн [Валлерстайн И., 2016г.], Джованни Арриги, Самир Амин (автор собственной теории неравномерного развития. – прим авт.) на конкретных фактах показывали, что между странами ядра с одной стороны и периферией/полупериферией с другой преобладает неэквивалентный обмен, что приводит фактически к ограблению странами ядра стран периферии/полупериферии и это есть результат целенаправленной политики стран ядра. Вывод авторов мир-системного анализа глобальных процессов можно сформулировать так: мир-систем, как и мировых цивилизаций входящих в различные мир-системы, может быть несколько. Однако, капиталистическая мир-система может быть только одна, она может включать в себя несколько цивилизаций, но основу её структуры являет ось «центр-периферия».
К схожим выводам пришёл, в частности, и российский/советский экономист В.В. Крылов (1934-1989 гг.), который полагал, что многоукладность капиталистической экономики закономерно проявляется таким образом, что ядро капсистемы существует во многом за счёт эксплуатации и подавления периферии, что гарантирует получение большего дохода и контроль над экономикой периферии. В политическом отношении агенты ядра капсистемы консервируют в выгодном для себя отношении политико-экономическую архаику, целенаправленно используя искусственную слаборазвитость в своих интересах [Крылов В.В., 1997г.] . В этом проявляется суть неоколониализма.
История свидетельствует, что значение войн как проявления всеобъемлющей экспансионизма, отражающего саму природу капитализма, для капитализма очень велико. Войны всегда были для этой политико-экономической системы мощнейшими факторами промышленного роста и средством снятия внутренних противоречий: восстановление разрушенного войной, восполнение потерь во время и после войны в ХХ веке дважды были двигателями развития мировой экономики и причинами колоссального обогащения «ядра» капсистемы после каждой из мировых войн. Поэтому военно-политический фактор при капитализме играет колоссальную роль. Но когда военной силы было недостаточно и когда очередная жертва западного гегемонизма представляла собой сложное и развитое общество, тогда в ход пускали когнитивное оружие, добиваясь превосходства в методах когнитивного, и в частности, семантического, управления в том числе и как одной из целей культурной политики в отношении Советского Союза и Российской Федерации [Сондерс Ф.С., 2020г.] .
Современная глобализация, которая, по существу, есть вестернизация, вовсе не выдвигает в качестве обязательного условия прямой политический контроль над периферией. Однако, подразумевается создание такой системы социально-политического и экономического взаимодействия, которое было бы выгодно для стран цивилизационного ядра коллективного Запада и которое обрекало бы периферию на, в первую очередь, технологическую зависимость и, как следствие, экономическое отставание, что само по себе уже будет являться достаточным основанием для политического контроля над периферией в форме системы внешнего управления. Для стран ядра важно не допустить неконтролируемого экономического развития, которое могло бы привести к возникновению не нужной им конкуренции. О том как происходит формирование механизмов контроля над социальнополитической и экономической сферой стран периферии, что обрекает их на неоколониальный статус, показывает современный норвежский исследователь Эрик Райнерт [Райнерт Э.С., 2018г.].
Кроме того, разрешение неизбежных при капитализме кризисов перепроизводства требуют деиндустриализации экономик стран периферии, что и было предпринято по отношению к восточноевропейским странам, которые со своей развитой экономикой могли стать серьёзными конкурентами экономик стран ядра. И в этом смысле цель политики по отношению к России предельно понятна: превращение её в часть подконтрольной технологически, финансово-экономически, социально-политически, а также идейно и культурно, периферии, низведение роли России в системе международных отношений в лучшем случае в ранг региональной державы, играющий роль сырьевого придатка цивилизационного ядра коллективного Запада и являющейся послушным проводником геополитических интересов Запада в его противостоянии с другими потенциальными центрами силы, например, с Китаем и некоторыми исламскими странами.
Для России же дальнейшее пребывание в роли периферии коллективного Запада означало бы перспективу полной утраты политического суверенитета, культурно-ценностного своеобразия и исторической субъектности, что экзистенциально неприемлемо для подавляющего большинства россиян вне зависимости от их социального статуса, поскольку означает неизбежную историческую аннигиляцию. Поэтому положение России в настоящее время характеризуется очередным обострением противостояния с коллективным Западом, прежде всего, с его цивилизационным ядром, что особенностью как раз и не является, скорее, исторической закономерностью.
Однако для подлинного, подкреплённого силой, суверенитета особенно для страны, претендующей в мире на экстраординарную роль тем более, что подобная роль важна именно как условие исторического выживания, России необходим проект будущего, основанный на универсальных ценностях, актуальный для как можно большего числа стран в том числе и относящихся к коллективному Западу, который отнюдь не однороден. Российский глобальный проект будущего должен опираться на ценности российской культуры универсалистский пафос которой чрезвычайно высок. Русская философия, русская культура гуманистична и обращена к всеобщему.
Русские мыслители разных исторических эпох и не поражённые русофобией мыслители Запада отмечали, что рационализм западной культуры русская мысль обогащает созерцанием и переживанием христианского Логоса, который, по словам В.Н. Эрна «… примиряя правду крайнего и абсолютного индивидуализма с принципиальным универсализмом (органическое сочетание этих двух крайностей абсолютно невозможно в рационализме), требует существенного внимания не только к мысли, звучащей в словах, но и к молчаливой мысли в поступков, движений сердца…» [Эрн В.Ф.,1991г.] . Эрн называет характерными чертами русской философии «онтологизм, существенную религиозность, персонализм» [Эрн В.Ф.,1991г.] .
Между тем многонациональная русская культура как «единство в многообразии» вовлекающая в себя и примиряющая в себе ценности многих народов, культур и цивилизаций принципиально настаивает также на примирении в духе и любви индивидуального, личностного и всеобщего, универсального. В этом суть хорового начала, русской коммунитарности как характернейшей ментальной черты.
Идеи русского космизма созвучны темам русской культуры и русской философии, в них отражается специфика культурных кодов российской цивилизации. В формировании российского проекта будущего, что неизбежно при стремлении нашей страны сохранить историческую субъектность, идеи русского космизма чрезвычайно важны, они могут быть оружием в когнитивном противостоянии и в как фактор «мягкой силы» во международных взаимоотношениях.
Философия русского космизма гуманистична и персоналистична. Русские космисты отстаивали принципиальную значимость духовно-нравственного начла как цели и средства раскрытия бытия человека.
Так, родоначальник русского космизма Николай Фёдорович Фёдоров подчёркивал безусловную нравственную ответственность человека за весь мир и природный, и, собственно, людской. Он высоко оценивал созидательную роль в истории человечества науки и технического прогресса, не разделяя пессимизм критиков сциентизма и технократизма, поскольку связывал научно-технический прогресс с духовно-нравственным Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика [Электронный ресурс] / гл. ред. А.Е. Петров. – Дубна : 2008-2024. – ISSN 2076-1163. – Режим доступа: совершенствованием человека с опорой на святоотеческое предание. По мысли Фёдорова, человек провиденциально призван возвысить природный мир собственным просвещённым разумом, то есть сформировать ноосферу, что будет одной из центральных тем всех русских космистов. Он вдохновлялся жизнеутверждающим пафосом христианства, подчёркивал центральную значимость для человека литургического восприятия труда как со-работничества Богу. И главный труд человека в мировой истории, суть мирового «общего дела» — это «работа спасения», в своём нравственном пределе воскресающее умерших творчество человека. На это должны быть направлены все научно-технические достижения общечеловеческой культуры, в этом их духовный смысл. В утопической идее всеобщего воскрешения мёртвых как цели и смысле мировой истории и миссии человека в истории присутствует «… гениальное прозрение в толковании апокалиптических пророчеств, необыкновенная красота нравственного сознания, всеобще ответственности всех за всех…» [Бердяев Н.А., 1990г.]. Николай Фёдорович Фёдоров стремился к будущему «со всеми и для всех», будучи убеждённым что «нужно жить не для себя и не для других, а со всеми и для всех».
Ещё одна важная идея Фёдорова, придающая актуальность русскому космизму, это идея о необходимости регуляции просвещённым и одухотворённым разумом человека стихийных сил природы, подчинение природы человеку на нравственной основе соединения христианства с верой в могущество науки и техники. Таким образом, согласно русскому мыслителю, миссия христианства в мировой истории должна подразумевать научнотехнический аспект. Миротворение есть продолжающийся процесс и научно-технические возможности человека должны быть к миротворению привлечены.
Очень важный гуманистический мотив в творчестве русского философа представлен мыслью о том, что если человечество в своём мессианском «общем деле» по-братски соединится для достижения победы над смертью и достижения всеобщего воскресения, то оно может избежать ужасов апокалипсиса, явления антихриста, страшного суда и погружения в ад. Катастрофичность апокалипсиса представляет собой угрозу именно греховному человечеству, человечеству пребывающему во зле. Ужасы страшного суда не предрешены, человек может изменить свою судьбу обращением к идеалам братства и приобщением к «общему делу» во всей полноте бытия, то есть как в пространстве, так и во времени. Подобный безграничный оптимизм русского космизма опирается на убеждённость возможности Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика [Электронный ресурс] / гл. ред. А.Е. Петров. – Дубна : 2008-2024. – ISSN 2076-1163. – Режим доступа: апокастасиса как результата человеческого труда в исполнении миссии «общего дела». То есть, совместными усилиями нравственно одухотворённые люди способны преодолеть любые вызовы истории, радикально изменить даже то, что предписано свыше. Пределов нравственно одухотворённому человеческому творчеству нет.
Ещё один представитель русского космизма учёный-энциклопедист Николай Алексеевич Умов также всецело разделял жизненный «активно-христианский настрой», то есть жизнь согласно заповедям деятельной любви. Актуализация человеком собственной внутренней цельности, активно-деятельное приведение в одухотворённую гармонию человеческих знаний со всем ритмом жизни были для него условием реализации миссии человека по «космизации», то есть упорядочиванию мира, созданию того, что чуть позже назовут «ноосферой», посредством синтеза науки и искусства, нравственно воспринимаемой рациональной теории и многообразной практической деятельности. Для Умова человек – это homo sapiens explorans, не просто разумный, но творчески активный исследователь природы. Человек дополняет бытие собственным творчеством, создавая «вторую природу» то есть культуру, но не просто как материальное дополнение мира, а нравственно преобразуя его, дополняя и завершая бытие собственным творчеством, проникнутым любовью и добром.
Вхождение в жизнь человека техники как дегуманизирующего начала, создающего ситуацию отчуждения, которая в перспективе может привести к выходу машины из-под контроля человека, русскими космистами осмыслялось в неразрывной связи с этикой. Вызовы и угрозы человеку, которые потенциально несёт в себе индустриальная культура, преодолеваются человеком в формировании ноосферы как сферы, в которой просвещённый разум человека гармонизирует наши отношения с техникой, трансформируя потенциальную проблемность технизации жизни в актуальность обогащающего человечество созидания.
Концепт «ноосферы» наиболее полно был раскрыт в многогранном творчестве В.И. Вернадского. Эволюция, как не только внешнее, материально-механистическое развитие, но как процесс всеобъемлющего качественного развития, пути к реальности калокагатии, должна определяться развитием человеческого разума. Мир преобразует природа, в которой как результат активной эволюции раскрывается разум человека во всей свой нравственной красоте и творческой мощи.
Жизнь многих космистов была примером служения их высоким идеалам и напоминала жизнь подвижников веры. Каждый из них – К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, П.Г. Кузнецов и многие другие – достоин томов исследований жизни и творчества. Общие идеями русского космизма были и сегодня актуальные постулаты: о прежде всего нравственной ответственности человека за сохранение и улучшении жизни на Земле, о ведущей роли и гуманистической миссии науки в активной эволюции человечества и о необходимости для учёного опоры на этику, о важности системного подхода к изучению развития общества и природы как единого целого, что само по себе способно предохранить человечество от многих глобальных проблем, о морально-этических принципах регуляции биосферы и природы человека, о широких возможностях преобразование природы без насилия над ней без чего невозможно решать многочисленные экологические проблемы.
В русском космизме происходит осмысление миссии науки в контексте вечности, преодоление ограниченности линейного восприятия времени. Прогресс науки представляется прежде всего как прогресс разума, как раскрытие сверхреальности, выходящий за горизонт рациональности. Наука, чтобы служить людям, должна проходить через глубины сердца.
В то же время русский космизм глубоко укоренён в пространстве русской национальнокультурной традиции. Традиция – это своего рода дверь в прошлое, во времена когда-то живших отцов. Но она не есть мертвечина, реликт, покрытый пылью времён, не есть то, что уже безвозвратно прошло, она должна присутствовать в жизни, в настоящем времени, без традиции нет полноты жизни. Именно национально-культурная традиция сообщает человеку интуицию о вневременных и потому объективных критериях правды и красоты. Именно в традиционном мировоззрении в центре находится человек как одухотворённый субъект, поскольку в ней присутствует логика вечного духовного закона. Это даёт пространство для жизни через утверждение внутренней свободы сердца. В контексте традиции тезис о смерти человека невозможен. Отсюда, то есть в укоренённости русского космизма с русской национально-культурной традицией, и оптимизм о возможности победы над смертью.
Многие идеи русских космистов реализовывались на практике особенно в советское время способствуя, в частности, становлению в СССР человеко-машинной инфраструктуры познания и созданию ментальных условий для технологического рывка России в ХХ веке. Можно утверждать, что на основе созданной в Советском Союзе машинной инфраструктуры познания в стране сформировалась новая когнитивная парадигма характерная для общества модерна.
Русский космизм также является актуальной концепцией положительного синтеза науки и религии понятой как залог и основа нравственной чистоты человека, гармонии всех его жизненных начал. Цивилизационно-исторической чертой российского космо-психологоса является полагание чрезвычайной значимости синтеза научного познания и религии, богословия. В подобном синтезе мыслится целостность как индивидуального бытия, так и бытия как такового, как божественного космоса. Задача осуществления подобного синтеза в исторической реальности ставилась с петровских времён, то есть тогда, когда наука стала фактором развития российской цивилизации. Сохраняет актуальность эта задача и сейчас, тем более что именно религия является основой национально-культурной традиции, и именно национально-культурная традиция представляет собой важнейший компонент в когнитивном психоисторическом противостоянии.
Философия космизма формирует очень важную ментальную черту – склонность к интеллектуальной экспансии и вкус к конкуренции в когнитивной сфере. Идеи русского космизма детерминированы русским культурным кодом, но их когнитивный потенциал ограничен лишь условно и может быть вполне преодолён духом гуманистического универсализма, которым русский космизм проникнут. Не каждый культурный код содержит потенцию к универсализму. Но способность к генерированию в культуре универсальных ценностей придаёт идеям мировоззренческую широту, неизбежно расширяет умственные горизонты и создаёт привлекательность для представителей других культур. Однако, объектом атак в когнитивной сфере могут быть любые идеи, ценности и концепты.
Философия когнитивной войны также опирается на универсалистские идеи, ценности и концепты. Сама по себе эта философия свидетельствует о высоком уровне культурного развития поэтому для противостояния в рамках психоисторических когнитивных войн необходима не только духовная и интеллектуальная мобилизация, но и широкая опора на политические ресурсы общества или цивилизации, против которой осуществляются когнитивные атаки в рамках гибридной войны. Безусловно верно и то, что силу осязаемым факторам господства придают особенно те идеи, которые восходят из глубин народного духа и олицетворяют его не осязаемую, но нравственно явленную красоту.
Список литературы Идеи русского космизма в контексте когнитивных конфликтов
- Бердяев, Н.А. Русская идея. / О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. — М.- Наука, 1990. — 528 с.
- Биллингтон, Дж. Г. Икона и топор. Опыт истолкования русской культуры. / пер. с англ. И. Гуровой, М. Ерёминой, С. Ильина, Н. Мовниной, В. Муравьёва, Н. Фёдоровой; под общей ред. В. Скороденко. — М.- Издательство «Рудомино», 2001. — 880 с.
- Валлерстайн, И. Мир-система Модерна. Том III. Вторая эпоха экспансии капиталистического мира-экономики, 1730-1840-е годы. / Пер. с англ., литер. редакт., комм. Н. Проценко. — М.- Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. — 528 с.
- Зависимое развитие и сверхэксплуатация труда: сборник статей / составители и редакторы Д. А. Баринов, Р. А. Павлов. — М.- Санкт-Петербург: Лема, 2023. — 173 с.
- Катасонов, В.Ю. Антиутопии. Заговор против человечества без грифа «секретно». — М.- Книжный мир, 2020. — 544 с.
- Кембриджская история капитализма. Том 2: Распространение капитализма: 1848 – наши дни. / пер. с англ. А. Гусева; под ред. Д. Шестакова. — М.-Издательство института Гайдара, 2021. — 768 с.
- Койвисто, М. Русская идея. / Пер. с финск. — М.-Издательство «Весь Мир», 2002. — 244 с.
- Крылов, В.В. Теория формаций. — М.-Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1997. — 231 с.
- Ленин, В.И. О лозунге Соединённых Штатов Европы. // Полн. собр. соч.— М.-Издательство Политической литературы Т.26, 1973. — 354 c.
- Райнерт, Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. / Пер. с англ. Н. Автономовой; под ред. В. Автономова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 6-е изд. — М.-Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. — 354 с.
- Ранкур-Лаферьер, Д. Россия и русские глазами американского психоаналитика: В поисках национальной идентичности. / Пер. с англ. А.П. Кузьменкова; Научн. ред. В.М. Лейбин.— М.- Ладомир, 2003. — 288 с.
- Саид, Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. / Пер. с англ. А.В. Говорунов. — М.- СПб.: «Русский Mipъ», 2016. — 671 с.
- Сондерс, Ф.С. ЦРУ и мир искусства: культурный фронт холодной войны. / Пер. с англ. Под рук. Е. Логинова и А. Верченкова; редактор В. Крашенинникова. – 2-е изд. — М.- Институт внешнеполитических исследований и инициатив, Кучково поле, 2020. — 416 с.
- Фуко, М. Археология знания. / Пер. с фр. М.Б. Раковой, А.Ю. Серебрянниковой; вступ. ст. А.С. Колесникова. — М.-ИЦ «Гуманитарная Академия»; Университетская книга, 2004. — 416 с.
- Эрн, В.Ф. Нечто о Логосе, русской философии и научности / Эрн В.Ф. Сочинения. — М.- Изд-во «Правда», 1991. — 576 с.
- Riesman D., Glazer N., Denney R. The lonely crowd // The Lonely Crowd. — М.-Yale University Press, 2020. — 376 с.