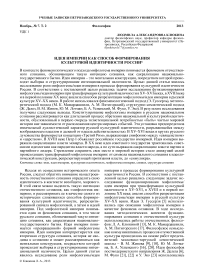Идея империи как способ формирования культурной идентичности России
Автор: Клюкина Людмила Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7 (136) т.2, 2013 года.
Бесплатный доступ
В контексте феноменологического подхода мифологема империи понимается феноменом отечественного сознания, обозначающим такую интенцию сознания, как сакрализация национальногосударственного бытия. Идея империи - это ментальная конструкция, посредством которой происходят выборка и структурирование интенциональной наличности. Целью данной статьи явилось исследование роли мифологемы/идеи империи в процессе формирования культурной идентичности России. В соответствии с поставленной целью решались задачи исследования функционирования мифологемы/идеи империи при трансформации культурной наличности в XV-XVI веках, в XVIII веке и в первой половине XX века; анализа способов репрезентации мифологемы/идеи империи в русской культуре XV-XX веков. В работе использовался феноменологический подход (Э. Гуссерль), метатеоретический подход (М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорский), структурно-семиотический подход (Ж. Делез, В.М. Живов, Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский, М. Фуко, У. Эко). В результате исследования получены следующие выводы. Конституирование мифологемы империи в русском национальном сознании рассматривается как длительный процесс обретения национальной и культурной идентичности, обусловленный в первую очередь экзистенциальной потребностью «быть» частью мировой истории вне зависимости от расположения центра мировых событий. Эта установка предопределила изначальный дуалистический характер русской культурной идентичности, разрывающейся между воображаемым идеалом и далекой от идеала действительностью. В XV-XVI веках в кругах русского духовенства формируется концепция «Третий Рим», выражающая симфонию между «священством» и «царством». В XVIII веке Петр I объявляет российское государство империей. Идея империи выражала сакрализацию власти монарха. В XX веке идея советского государства трактовалась советскими идеологами как парадигма власти народа, а по сути выражала сакрализацию власти партии и партийного лидера. Стремление сохранить свое место в мировой истории стало движущей силой происходящих трансформаций мифологемы империи: от символа национального сознания к идеологической конструкции, репрезентирующей притязания власти, до «симулякра».
Знак, идея империи, культурная идентичность, мифологема империи, символ, структура сознания
Короткий адрес: https://sciup.org/14750519
IDR: 14750519 | УДК: 1
Текст научной статьи Идея империи как способ формирования культурной идентичности России
Исходя из осмысления исторического опыта России, следует обратить внимание на настроенность отечественного сознания определять свою идентичность в контексте всеобщего, мирового. В этой связи можно выделить такую интенцию отечественного сознания, как «мифологема империи», и рассматривать ее в качестве одного из исторически сложившихся способов формирования культурной идентичности, репрезентированной сначала мифологемой, а затем и идеей империи. Под мифологемой империи понимается один из феноменов сознания, в том числе русского сознания, обозначающий такую интенцию сознания, как сакрализация национальногосударственного бытия. Идея империи понимается «превращенной» формой мифологемы империи. Идея империи интерпретируется как вторичная структура сознания, которая не сводима к сознанию и может рассматриваться как ментальная конструкция, посредством которой происходят выборка и структурирование интенциональной наличности. Целью данной статьи явилось исследование роли мифологемы/идеи
империи в процессе формирования культурной идентичности России. В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: исследование функционирования мифологемы/ идеи империи при трансформации культурной наличности в XV–XVI, в XVIII и в первой половине XX века; анализ способов репрезентации мифологемы/идеи империи в русской культуре XV–XX веков. Идеи Э. Гуссерля [5] использовались при описании мифологемы империи в качестве феномена сознания. В ходе исследования методологических аспектов функционирования сознания в отечественной культуре использовались работы отечественных философов: Л. А. Клюкиной [13], М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорского [17]. Философское осмысление коммуникативных процессов отечественной культуры проводилось на основе работ представителей московско-тартуской семиотической школы – В. М. Живова [9], [10], Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского [16], [20]. Идеи философов постмодернистского направления Ж. Делеза [6], М. Фуко [21], [22] и У. Эко [23] использовались при анализе способов репрезентации мифологемы империи.
Конституирование мифологемы империи было связано с идейным комплексом «Третий Рим», оформившимся в русском самосознании на рубеже XV–XVI веков. В этот период Россия становится единым централизованным государством, а русская церковь утверждает свое право на автокефалию. Задачи государства и церкви пересекались, так как обоснование автокефалии сопрягалось с утверждением статуса Русского государства в качестве царства и царского титула правителя [8]. В условиях средневековой культуры решить эту задачу можно было, лишь апеллируя к древней традиции. Концепция «Третьего Рима» была выражена в «Изложении пасхалии» митрополита Зосимы Брадатого, «Послании Спиридона-Саввы», «Сказании о князьях владимирских», посланиях старца Филофея, а затем оформлена в качестве политической доктрины в Уложенной грамоте Московского Освященного Собора в 1589 году, в XVII веке в «Повести о начале Москвы» [18; 436–456], [19; 336–357]. Согласно этой концепции, центр мира, первоначально находившийся в Риме, а затем в Константинополе, переместился в Москву, так как Москва сохранила основы христианства в первоначальном виде. Становясь последним Римом, Москва по этой логике превращалась в мировую державу, то есть империю. Чтобы избежать участи Византийского царства и обеспечить способ культурной идентификации, позволяющий обосновать место российского государства в истории вне зависимости от расположения центра мировых событий, идеологи русской политической мысли присоединяют к константинопольскому звену древнеримское и еще более древние звенья. В «Послании Спиридона-Саввы» и «Сказании о князьях владимирских» [7; 91] говорится о связи Рюрика с потомством брата Августа Римского Прусом [7; 162, 188–189]. Август рассматривается наследником Филиппа Македонского, а через него и представителем древнего рода, царствовавшего в Египте. Сама идея «Москва – Третий Рим» по своей сути была двойственной. Данная двойственность предполагала два варианта культурной ориентации и, следовательно, два возможных варианта исторического развития Российского государства. Москва могла восприниматься как святой, теократический город или как имперская государственная столица мира [16; 237]. Однако идеал симфонии между «священством» и «царством» являлся неизменным для авторов церковных кругов того времени и рассматривался в качестве презумпции при построении идеологических концепций. Церковные мыслители, развивая теократическую идею христианства, стремились найти пути к освящению власти [11; 46]. В средневековом древнерусском сознании формируется бинарная оппозиция «священство» – «царство», которая онтологизируется. «Третий Рим» понимался символом, то есть рассматривался в качестве явления сущего в существующем. «Третий Рим» русским сознанием понимался как нечто «священное», как область формирования высшего смысла и новой духовности народа, что, в свою очередь, отождествлялось с понятием власти. Таким образом, формирование культа и становление власти в отечественной культуре начинают обозначаться одной языковой структурой. И хотя «Третий Рим» в средневековом сознании понимался символом, а не языковым объектом, это обстоятельство сыграло важнейшую роль в становлении русской ментальности, так как сформировало благодатную почву для восприятия русским менталитетом различных утопических проектов.
Идея империи получает концептуальное выражение в XVIII веке, что было связано с преобразовательной деятельностью Петра I. В Европе появляются надконфессиональные государства, где монарх является распорядителем общественного блага. Перед Россией возникает новая историческая задача: быть цивилизованным государством или нет. Соперничество с Римом католическим за право исторического наследства также предполагало культурную переориентацию. Петр I избирает парадигму власти [16]. О культурной переориентации свидетельствовало принятие Петром I в 1721 году титула «Императора» в сочетании с «Отец Отечества» и «Великий» [20], строительство новой столицы и наименование ее Санкт-Петербургом [16], азбучная реформа. Одним из самых показательных моментов этой переориентации является разработка новой формулы самодержавия, выраженной в «Правде воли монаршей» и «Духовном регламенте», которые были написаны псковским архиепископом Феофаном Прокоповичем. Феофан дополнил теорию божественного происхождения верховной власти теорией естественного права и теорией общественного договора. В «Правде воли монаршей» Прокоповича озвучивается формула самодержавия: «Высочайшая власть (величеством нарицаемая) есть, которой деяния ни чьей же власти не подлежат» [1; 271]. Это определение стало основой идеологии российского самодержавия. Однако теория божественного происхождения царской власти предполагала оценку поступков царя с точки зрения исполнения им религиозных законов. Такую возможность отрицает Феофан Прокопович: «…царь заповеди… Божия хранить должен, но за преступление их самому токмо Богу ответ дает» [1; 273].
Включение европейской концепции монарха как распределителя общественного блага в культурную идеологию приводит в России к беспрецедентной сакрализации царя, широко распространяющейся со времен Петра I и характеризующей весь императорский период русской истории. Введение новых государственных и политических символов способствовало формированию русского варианта мифологии государства, где монарх выступал как «земной бог и земной спаситель, харизматически связанный с небесным Богом и Спасителем-Христом и вместе с тем, как апостол, ведущий свою державу по пути спасения» [10]. Петр I вводит также новый культурный язык («гражданское посредственное наречие») и приспособленный к этому языку алфавит (гражданский шрифт). Противопоставление старой и новой азбуки, церковнославянского языка и русского языка отражало ситуацию двуязычия в культуре [9]. Религиозная культура понималась как «неправильная», «несуществующая». Однако она была необходима в качестве альтернативы, так как через нее и посредством нее осуществлялась связь с заданным первичным символом, «Третьим Римом». Высший смысл рассматривается имманентным своему презентанту, конкретной, вполне реальной, всегда персонифицированной государственной власти. Идея империи наделялась конкретным значением и являлась знаком, репрезентирующим притязания власти. В таком ключе идея империи понимается способом манифестации «метафизики» власти. В ситуации двуязычия идея империи, сформированная государственной идеологией, воспринималась русским культурным сознанием двойственным образом: либо как образ себя, либо как что-то, «привнесенное извне», то есть «чужое».
Сложившаяся в XX веке в России социокультурная ситуация стала следствием логики развития русской культуры предшествующих эпох. Если в имперской культуре носителем культурных ценностей являлось дворянство, то в советский период каждый гражданин Советского Союза считался потенциальным носителем культурных ценностей. Об этом в январе 1918 года на III Всероссийском съезде Советов заявил В. И. Ленин: «Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил для того, чтобы одним все блага техники и культуры, а других лишить самого необходимого – просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием, и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в средства насилия, в средства эксплуатации» [15; 55]. Народ объявляется творцом культурных ценностей и собственной судьбы. Реальная власть принадлежала партии, делегировавшей себе право управлять от имени народа. В связи с переосмыслением концепта власти формируется новый вариант понимания трансцендентности. Местом обретения истины определялось эйдетическое пространство – Идея как таковая. Новые идеи формулировали идеологи КПСС, которые особое внимание обращали на идею создания «нового социума общей судьбы» [2; 171]. Предполагалось, что в обществе нового типа будет достигнут компромисс между коммунистическими планами всеобщего объединения и национальными традициями и будет создана новая культура – «пролетарская по содержанию и национальная по форме» (Сталин) [2; 171]. Однако необходимо было создать условия для перехода к такому обществу, поэтому все внимание идеологов КПСС было направлено на развитие и реализацию идеи советского социалистического государства.
Идея советского государства основывалась на следующих идеях. Идея целостности, или тотальности, означала единство всех форм культуры, которые в разной степени осваиваются членами общества. Это отразилось на образе жизни людей в советское время, который в общих чертах был одинаковым везде. Идея иерархии определяла поведение советского человека во всех сферах жизни. Так, например, в зависимости от места человека в иерархии определялось его право голоса. В полной мере словом владел лишь первый человек в иерархии, Сталин, которого все цитировали и на которого все ссылались как на истину высшей инстанции. Идея целенаправленности выступала связующим звеном между другими идеями. Советская система была ориентирована на будущее. В будущем лежало ее оправдание. Советская система рассматривалась как подготовительный этап, как начало строительства светлого будущего, в котором будут жить следующие поколения. Неукорененность в сегодня и вследствие этого ирреальность самой системы необходимо было объяснить, потому что трудно заставить людей жить как бы понарошку [12; 168–169]. Партийная элита по-разному решала это противоречие. Н. С. Хрущев на XXII съезде КПСС в 1961 году объявил, что советские люди через двадцать лет будут жить при коммунизме [14; 132–138]. Когда двадцать лет прошло, но ничего не изменилось, в «брежневской» конституции СССР 1977 года официально стало утверждаться, что советский народ живет в «развитом социализме» [14; 168–169]. Тем самым официально было объявлено наступление светлого будущего. Люди, лишившись цели и идеала, перестали строить коммунизм и стали жить своими частными интересами. С этого момента советская система и культура оказываются в кризисном состоянии, так как без цели, без идеи светлого будущего они не могли существовать.
Несмотря на то что формируется новая система идей, в советской культуре используются механизмы смыслополагания русской культуры. Признание «объективных преимуществ» социализма позволяло обосновать справедливость и целесообразность деятельности любого рода, независимо от того, какие социальные последствия она влечет за собой [2; 251–261]. Обожествлялась не только сама деятельность, но и ее субъекты. Прежде всего сакральный статус обрела бюрократическая деятельность [4]. Сакрализация власти привела к прямому обожествлению личности Сталина [3]. Таким образом, власть превращается в фетиш. Данный фетиш функционировал как самодостаточный знаковый комплекс, уже не имеющий никаких прототипов в контексте реальности и нормированной трансцендентности, репродуцируясь в режиме «симулякра» (подобия подобия). Идея «Третьего Рима» отсутствовала в советской культуре, но именно ее отсутствие было значимым. Идея советского государства, которому приписывалась миссия освобождения, просвещения и объединения народов, замещала данную смысловую структуру сознания.
Конституирование мифологемы империи в русском национальном сознании рассматривается как длительный процесс обретения национальной и культурной идентичности, обусловленный в первую очередь экзистенциальной потребностью «быть» частью мировой истории вне зависимости от расположения центра мировых событий. Эта установка предопределила изначальный дуалистический характер русской культурной идентичности, разрывающей- ся между воображаемым идеалом и далекой от идеала действительностью. Стремление сохранить свое право на бытие стало движущей силой происходящих трансформаций идеала: от теократической концепции «Третьего Рима» к «Империи», а затем и к идее советского государства. Структурно-семиотический подход, примененный к текстам русской культуры, показал, что несмотря на радикальные изменения историко-политического ландшафта, сохраняется устойчивое структурное ядро изначального смыслополагания. Освоение «чужого» через противопоставление и обособление становится своего рода судьбой русской культуры, независимо от того, в какой форме реализуется этот архетип: сакральной ли форме коллективного мифа или секуляризованной и индивидуально осмысленной идее империи. В советский период мифологема империи приблизилась к исчерпанию. Несмотря на идеологию строительства нового мира, в советской культуре эксплуатируется язык кода русской культуры. Идея империи используется в качестве инструмента социального контроля, постепенно превращаясь в знак, окончательно оторванный от своих референтов, и получает полную автономию, становясь «симулякром», воспроизводящим и транслирующим смыслы, неадекватные происходящим событиям.
* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг., подпроект «SCANDICA: культурные конвергенции».
Список литературы Идея империи как способ формирования культурной идентичности России
- Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра I. СПб., 1997. 331 с.
- Верт Н. История Советского государства. 1900-199. М.: ИНФРА-М: Изд-во «Весь мир», 1998. 544 с.
- Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. Политический портрет И.В. Сталина: В 2 кн. М.: Изд-во АПН, 1989. Кн. 1. Ч. 2. 367 с.
- Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 1991. 623 с.
- Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии. М.: ДИК, 1999. Т. 1. 311 с.
- Делез Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. 384 с.
- Дмитриева Р.П. Сказание о князьях владимирских. М.; Л., 1955. 215 с.
- Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. СПб.: Наука, 2005. 384 с.
- Живов В.М. Азбучная реформа Петра I как семиотическое преобразование//Семиотика культуры: Труды по знаковым системам/Тартуский государственный университет. 1981. Вып. 546. С. 54-67.
- Живов В.М., Успенский Б.А. Царь и Бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха в России//Языки культуры и проблема переводимости. М., 1987. С. 47-153.
- Зеньковский В.В. История русской философии. Париж, 1989. Т. 1. 469 с.
- Ионин Л.Г. Социология культуры. М.: Изд. корпорация «Логос», 1998. 280 с.
- Клюкина Л.А. Формирование и функционирование имперского сознания в русской культуре: опыт феноменологического прочтения/Федер. агентство по образованию Рос. Федерации, филос. фак., С.-Петерб. гос. ун-т, С.-Петерб. филос. о-во. СПб., 2009. 253 с.
- Лейбович О.Л. Россия, 1941-1991: Документы, материалы, комментарии/Перм. гос. ун-т; Зап.-Урал. учеб.-науч. центр. Пермь, 1993. 253 с.
- Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М.: Политиздат, 1981. Т. 38: Март -июнь 1919. XXIV. 579 с.
- Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва -Третий Рим» в идеологии Петра Первого//Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 236-249.
- Мамардашвили М.К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. СПб.: Азбука: Азбука-Атикус, 2011. 320 с.
- Памятники литературы Древней Руси. Конец XV -первая половина XVI века. М.: Худож. лит., 1984. 768 с.
- Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV-XVI вв.). М.: Индрик, 1998. 416 с.
- Успенский Б.А. Этюды о русской истории. СПб.: Азбука, 2002. 474 с.
- Фуко М. Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Касталь, 1996. 447 с.
- Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. 406 с.
- Эко У Отсутствующая структура. Введение в семиологию/Пер. с итал. В.Г. Резник и А.Г. Погоняйло. СПб.: Симпозиум, 2004. 538 с.