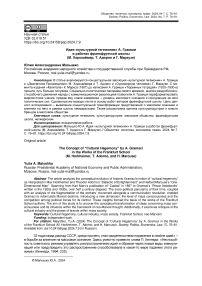Идея «культурной гегемонии» А. Грамши в работах франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно и Г. Маркузе)
Автор: Малышко Юлия Александровна
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 7, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется концептуальная эволюция «культурной гегемонии» А. Грамши в «Диалектике Просвещения» М. Хоркхаймера и Т. Адорно и «Одномерном человеке» Г. Маркузе. С момента издания «Капитала» К. Маркса (1867) до написания А. Грамши «Тюремных тетрадей» (1920-1930-е) прошло чуть больше полувека. Социально-политическая панорама своего времени, анализ раздробленности рабочего движения наряду с коммуникационной революцией позволили А. Грамши переформатировать марксистское учение, придав ему новое измерение - уровень массового сознания и конкуренции за него политических сил. Сделанные им выводы легли в основу работ авторов франкфуртской школы. Цель данного исследования - выявление концептуальной трансформации представлений о массовом сознании и влиянии на него в рамках школы неомарксизма. Также рассмотрена критика культуриндустрии и власти брендов в массовом обществе.
Культурная гегемония, культуриндустрия, массовое общество, франкфуртская школа, неомарксизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149145521
IDR: 149145521 | УДК: 32.019.51 | DOI: 10.24158/pep.2024.7.9
Текст научной статьи Идея «культурной гегемонии» А. Грамши в работах франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно и Г. Маркузе)
Одним из крупнейших просчетов советского руководства стала неготовность и нежелание выстраивать новую коммуникационную стратегию в условиях зарождающегося информационного общества, которое характеризуется своей массовостью и вовлечённостью в единое информационное поле. В таком обществе погруженные в единое информационное пространство индивиды испытывают на себе каждодневное влияние тенденций, задаваемых информационной индустрией, отсутствие со стороны государства убедительных, грамотно представленных аргументов и привлекательных (и что немаловажно, актуальных) образов, общая ретроградность стали одними из решающих факторов, подточивших фундамент советского строя.
Феномены массовости и гомогенизации, будучи продуктами ХХ века, в их взаимосвязи с политическими и экономическими общественными преобразованиями являлись предметом рефлексии такого направления политической мысли, как неомарксизм. И, так как идеи неомарксизма являются объектом данного исследования, в качестве методологического основания был избран структурно-функциональный подход, направленный на изучение взаимной обусловленности общественных подсистем – политики, идеологии и массовой культуры.
Одним из принципиальных отличий неомарксизма от своего классического прародителя является обновленный подход к идеологии (и к «борьбе за умы») как компоненту надстройки. В своей работе «Марксизм и философия» К. Корш указывает, что К. Маркс и Ф. Энгельс стремились выстроить систему социализма как научную концепцию, полностью очистив его от всякого идеологического элемента («идеологических уверток», по К. Марксу). К. Корш приводит разделяемый марксистами тезис Г. Гегеля о том, что бытие (в марксистской парадигме полностью определяемое отношениями между собственниками средств производства и эксплуатируемым рабочим классом) задает существующие в сознании идеи («философия постигает в идеях свое время») (Корш, 1924).
Несмотря на прослеживаемую общую связь между движением мысли и революционным движением, классический марксизм признает за бытием примат над сознанием (Корш, 1924: 17), тем самым проводя водораздел между научным социализмом, детерминированным тем или иным этапом развития производственных сил и производственных отношений, и опциональной идеологической надстройкой. Г. Лукач отмечает, что тем самым мы «отнимаем у сознания всякую способность оказывать решающее воздействие на исторический процесс» (Лукач, 2003: 113).
Помимо стремлений основателей марксизма создать не просто философское или идеологическое направление, но научную школу (философия в своем классическом варианте атрибутировалась рудиментарному буржуазному обществу; в свою очередь, идеология, наряду с церковью, правом, обычаями, семьей и прочими социальными институтами, предположительно не играли решающей роли и лишь служили отражением происходящих в базисе процессов) подталкивало их к обращению к экономике как наиболее точной из общественных наук. Впрочем, сущность социализма как проекта справедливого устройства общества не миновала критики – к примеру, о ненаучности марксизма (и парадоксального идеализма теории, берущей свое начало из материализма Л. Фейербаха) писал А.А. Зиновьев в своей работе «На пути к сверхобществу» (Зиновьев, 2000: 217).
Логика классического марксизма определялась социополитическими реалиями XIX века – рассветом индустриализации, урбанизации, дерурализации, ростом доли рабочего класса в странах Западной Европы и назревающей потребностью в улучшении качества жизни «синих воротничков». Групповое сознание тех или иных социальных слоев в действительности определялось совокупным бытием индивидуумов с учетом минимального доступа к внешней информации. Соответственно, первостепенным условием социалистической революции являлось формирование классового сознания на фоне преимущественно экономических посылок. Впрочем, уже на рубеже веков участники II Интернационала (среди них К. Каутский, Г.В. Плеханов, Э. Бернштейн, Ж. Сорель) отмечали раздробленность пролетариата и тенденцию к дальнейшему дроблению на фоне развития капитализма.
Одновременно, начиная со второй трети XIX века, набирала обороты коммуникационная революция, которая вскоре станет одной из главных социально-политических трансформаций при переходе от модерна к постмодерну (1833 г. – выход первой массовой газеты «Сан», 1839 г. – «рождение» фотографии, 1895 г. – показ первого фильма братьев Люмьер, начало 1920-х гг. – массовое распространение радио). Кроме того, Октябрьская революция 1917 г. продемонстрировала возможность перехода к социалистическому этапу для преимущественно аграрного общества, что не укладывалось в марксистскую концепцию (согласно переписи 1897 г. доля населения, занятого в сельском хозяйстве, была в 3,5 раза больше, чем доля рабочих-пролетариев) (Зак, 1906: 7).
-
А. Грамши стал первопроходцем неомарксизма, преобразовавшим теорию Маркса для реалий наступившего века. Проведя в тюрьме 11 лет (с 1926 по 1937 г.) и будучи жертвой репрессий со стороны пришедших к власти в Италии фашистов, в своих «Тюремных тетрадях» А. Грамши переработал опыт революции в России, теоретизируя свои соображения о возможности бескровной смены режима. Так было разработано учение о «культурной гегемонии».
А. Грамши обращает внимание на то, что власть господствующего класса держится не только на насилии, но и на согласии, не только на принуждении, но и на убеждении (Грецкий, 1991: 65–66). Задачей политической силы, стремящейся к установлению собственной власти, является завоевание согласия максимально широких слоев населения, что сводило бы к минимуму необходимость применения насильственных средств. Иными словами, культурная гегемония – это доминирование, обеспеченное коммуникационной стратегией. Все более унифицированные факторы коллективного сознания и идеологии, которыми пренебрегает классический марксизм, отвечают за реализацию одного из альтернативных политических сценариев (Грецкий, 1991: 73). «В современном мире <…> стандартизация образа мыслей и действий принимает национальные или даже континентальные размеры» (Грамши, 1959: 251).
Борьба за сознание людей в рамках революции нового типа имеет такое же значение, как и борьба за собственность на средства производства. Важно отметить, что А. Грамши отвергает идею классического марксизма о том, что конечной целью революционной борьбы выступает установление диктатуры пролетариата. Он указывает на то, что победа рабов над рабами качественно не меняет систему. А. Грамши абсолютизирует свободу, приходя к выводу, что освобождение не ограничивается выходом из рабства, но конечной своей целью должно иметь устранение самой возможности рабства и диктатуры любой из сторон. Напротив, прогрессивная трансформация политического диалога возможна в результате распространения новой политической культуры. Вопреки гуманистическим идеалам А. Грамши отнюдь не демократические силы также могут применять тактику установления культурной гегемонии.
Итак, Антонио Грамши был убежден, что основой политической власти является доминирование в культурной сфере – контроль над т. н. «культурным ядром». По его собственному выражению, философия политического движения должна стать «обновленным обыденным сознанием, отличающимся последовательностью и убедительностью индивидуальных философий», достигаемых через постоянный контакт с «простыми людьми» (Грамши, Лукач, 2017: 105).
Как философия может быть внедрена в повседневное сознание? В ответ на этот вопрос А. Грамши называет два условия:
-
1) постоянное повторение собственных аргументов (которые могут быть облечены в любую, скажем, литературную или художественную форму). Иными словами, идея со стабильным содержанием должна облекаться в пластичную форму и становиться неотъемлемой частью окружающей индивида реальности в силу своей репетативности (Грамши аргументирует этот тезис отсылками к церковной практике, где репетативностью ритуалов и молитв в рамках единого учения достигается конфессиональное единство и укрепление прихожан в вере) (Грамши, Лукач, 2017: 111);
-
2) повышение образовательного уровня «все более широких слоев народа» (с гуманистических позиций рост народного самосознания видится важным условием формирования политической культуры и вовлечения в политическую жизнь все большего числа последователей движения).
В идеальном мире все более образованные граждане постоянно утверждаются в своей убежденности, оказывая поддержку культурному гегемону не по причине силового подавления всех остальных участников политической жизни, но в силу обоснованности постоянно повторяемых аргументов, интерес к которым подогревается и актуализируется за счет обновления формы. Здесь можно найти противоречие и возразить, что повышение уровня образованности неизбежно должно повлечь за собой возрастание скепсиса по отношению к любым, даже самым взвешенным и проверенным аргументам. Всегда в рамках любого дискурса находится место критике, тем самым повышая уровень самосознания, гегемон создает почву для подрыва собственной гегемонии.
Будучи мыслителем (пожалуй, в большей степени, чем политиком-практиком), чья деятельность пришлась на период интербеллума, А. Грамши относится к такому диалектическому процессу положительно, воспринимая его как основу исторического развития, смены эпох и самосовершенствования общества. Однако уже в послевоенный период становится понятным, что повсеместные, доведенные до абсолюта унификация и репетативность, легшие в основу массовой культуры в эпоху «общества благосостояния», могут принимать пугающие и уродливые формы, ставшие предметами осмысления и критики со стороны философов франкфуртской школы.
В 1947 г., находясь в эмиграции в США, которые можно небезосновательно признать родиной массовой культуры, М. Хоркхаймер и Т. Адорно публикуют «Диалектику Просвещения». В разделе «Культуриндустрия. Просвещение как обман масс» авторы делают неутешительные выводы о состоянии современного им общества и его перспективах.
Массовая культура, определяемая технологиями, транслируемая СМИ и служащая интересам государства в сотрудничестве с крупным бизнесом, накладывает отпечаток однообразия на все части реальности (Хоркхаймер, Адорно, 1997: 149). Являясь «продуктом сознания земного руководства производственного процесса», массовая культура заполнена клише, которые легко предсказуемы для потребителя и повторяются из раза в раз. Однако, в отличие от социального проекта А. Грамши, в массовой культуре это повторение имеет характер коммерческой рекламы, которая, отпечатываясь в сознании зрителя, в конечном итоге действует на него гипнотически, заставляя приобретать тот или иной товар, не задумываясь о его реальном качестве, эстетическом соответствии (Т. Адорно, среди прочего, был композитором и музыковедом) или пользе для себя.
Филигранность воздействия подкрепляется готовностью масс верить и относиться «с большой серьезностью» к прививаемым шаблонам и, главным образом, «мифу об успехе» (Хоркхай-мер, Адорно, 1997: 166–167). Бизнесу не приходится маскировать свой коммерческий интерес, даже напротив – повсеместная и вполне открытая коммерция (в том числе в искусстве и творчестве) нарочито конструирует иллюзию единства общего и частного, легитимизируя саму себя в массовом сознании как естественный и безальтернативный порядок вещей.
М. Хоркхаймер и Т. Адорно видят культуриндустрию как царство скудного изобилия или выбора без выбора, в котором не появляется ничего нового – за обновленной формой стоит все та же идея бесконечного потребления одних и бесконечного заработка других. Ассортимент брендов укрепляет индивида в убежденности, что, выбирая из ряда однотипных товаров, он изъявляет свою свободную волю. В этом и состоит великий обман – на самом деле потребитель все больше погружается в кабальную зависимость от диктата культуриндустрии.
Характерно, что культурниндустрия ломает всякие барьеры между несогласующимися на первый взгляд элементами культуры. Штамповка способствует вытравлению различий, многомерности, сложности. Типовой продукт культуриндустрии запускает в сознании потребителя привычный ассоциативный ряд, лишая малейшей потребности в анализе (Хоркхаймер, Адорно, 1997: 171). Блок-схематичная программа продукта не предполагает разночтений, оставляя зрителю возможность следовать заранее заготовленному для него маршруту.
В условиях культуриндустрии человек не чувствует собственной уникальности. Напротив, единственно ценным его качеством признается способность заменять и быть замененным. Авторы приводят в пример кинематограф, в котором персонажей стремятся сделать как можно более похожими на зрителей, будто те в любой момент могли бы поменяться местами. По чистой случайности индивид оказывается в зрительном зале, а не на экране – ни за тем, ни за другим его положением не стоит иного объяснения, кроме как случайность. Индивид становится сам таким же стандартизированным товаром, как и потребляемый им продукт (Хоркхаймер, Адорно, 1997: 182–183).
Анализируя опыт геббельсовской пропаганды, авторы также отмечают, что ее ошеломляющий эффект объяснялся не аномальной харизмой А. Гитлера, а массовым тиражированием его образа. Постоянное повторение доступных для рядового обывателя формул, ставшее возможным благодаря повсеместному распространению радио, становилось «сатанинской пародией на вездесущность духа божественного» (Хоркхаймер, Адорно, 1997: 199). Смысл сказанного теряется в потоках дублирующих себя формул, повергая общество в состояние массового психоза.
Таким образом, авторы «Диалектики…» максимизируют эффект культурной гегемонии, ставшей инструментом в руках тоталитарного режима и крупного капитала. Продолжателем критического направления в анализе массового общества стал Г. Маркузе, чей «Одномерный человек» вышел в свет в 1964 г.
Работая над теорией бескровной смены режима, А. Грамши рассматривал политику как арену конкуренции гегемона и критикующей его оппозиции. В свою очередь, Г. Маркузе констатирует, что в XX веке социальная критика потеряла оппозиционность. Общество нивелировало революционные противоречия и вобрало в себя антагонистичные силы, которые отныне встроены в его нормальное функционирование. В условиях максимального удовлетворения потребностей противостояние системе и стремление изменить status quo кажутся бессмысленными (Маркузе, 1994: 2). Любые дебаты сводятся к обсуждению тех альтернатив, которые качественно не меняют систему, а потому не несут в себе опасности для гегемона.
«Воспитанный» современной западной цивилизацией человек не способен отказаться от благ, этой цивилизацией предоставляемых, и, как следствие, не способен выразить свой протест. Насаждение потребностей и их успешное удовлетворение становятся репрессивным орудием в руках общества изобилия. «Возможность делать или не делать, наслаждаться или разрушать, иметь или отбросить, становится или не становится потребностью в зависимости от того, является или не является она желательной и необходимой для господствующих общественных институтов и интересов» (Маркузе, 1994: 6). Человек неспособен контролировать свои потребности, как неспособен он отказаться от ставших привычными благ и удобств.
В «одномерном обществе» происходит беспрецедентное внешнее сближение классов и социальных групп – все они, начальники и подчиненные, мужчины и женщины, капиталисты и коммунисты, черные и белые, становятся вовлеченными в массовое пространство, где потребляют схожую информацию, покупают товары одних и тех же брендов, подчиняются общей моде. Однако их свобода заканчивается ровно там, где начинаются интересы гегемона – истеблишмента.
Автор критически настроен и в отношении капиталистического общества, и в отношении современного состояния социалистических идей, далеко отошедших от концепции коммунизма как
«отмирания государства». В конечном итоге общественная мобилизация по обе стороны «железного занавеса» своей целью имела лишь укрепление глобального status quo и сохранение статуса национальных элит (Маркузе, 1994: 70–71). В реалиях «холодной войны» Г. Маркузе видит активное проявление культурной гегемонии: пропаганда капиталистического мира/стран социализма строится на повторении одних и тех же формул, которые имеют гипнотический эффект. То, что не укладывается в задаваемый паттерн, записывается в разряд анархизма и коммунизма/капита-лизма и сектанства соответственно. В конечном счете крушение социалистической системы определялось отсталостью в поле удовлетворения индивидуальных потребностей. В лице США режим приобрел конкурента, дававшего «обещания», которые СССР выполнить не мог.
Современное общество превращается в подобие плавильного котла, где государство сращивается с бизнесом, страны объединяются на основании военного сотрудничества и товарноденежных отношений, стираются границы между социальными классами, частная жизнь становится достоянием общественности и измеряется общественными стандартами. Политические партии развиваются по принципу «catch-all parties», когда их линии слабо отличаются друг от друга вопреки принадлежности к той или иной части политического спектра. Реклама, пиар и постоянное воздействие на сознание становятся неотъемлемыми факторами производства (Маркузе, 1994: 64). Мысли, чувства и устремления также становятся товарами. Становясь объектом тиражирования и материализации, высокая культура нивелируется и теряет многомерность в силу того, что она встраивается в культуру массовую. СМИ играют решающую роль в совмещении искусства, политики, религии и философии с коммерческой рекламой, придавая всем сферам общественной жизни товарную форму (Маркузе, 1994: 74).
Г. Маркузе отмечает тенденцию, характерную для культуриндустрии по мнению его учителей (М. Хоркхаймера и Т. Адорно), а именно работу СМИ и пиар-служб по фиксированию образов и привязанных к ним ассоциаций, провоцирующих специфическую реакцию. «Именно этому служит хорошо известная техника рекламной индустрии, используемая для «утверждения образа», который прилипает к продукту, предмету, мысли и способствует продаже как людей, так и товаров» (Маркузе, 1994: 119). Сильный бренд не оставляет реципиенту люфта для осмысления и анализа реальных характеристик товара – реклама «выполняет за него всю мыслительную работу». СМИ и рекламодатели закладывают в сознание (причем как обывателей, так и интеллектуалов) шаблоны выражения мыслей. В результате, оценивая политическую ситуацию на различных уровнях, индивид описывает информацию, почерпнутую из СМИ, и свою реакцию на опосредованные данные.
Таким образом, анализ «Тюремных тетрадей» А. Грамши, «Диалектики Просвещения» К. Хоркхаймера и Т. Адорно, «Одномерного человека» Г. Маркузе позволяет сделать несколько выводов. В рамках франкфуртской школы марксизм претерпевает трансформацию из учения об экономической эксплуатации в учение об эксплуатации сознания. Живя в обществе потребления, «белые воротнички» становятся «пролетариями 2.0», но в них нет того революционного потенциала, которым обладали рабочие на рубеже XIX и XX веков. В пространстве культуриндустрии власть бренда над мышлением безгранична, как безграничны технические возможности для пропаганды. Власть капитала обеспечена его культурной гегемонией. Однако вопреки надеждам, которые выражал А. Грамши, доминирование достигается не за счет интеллектуального усиления аргументации, но благодаря «бомбардировке сознания» современными СМИ, находящимися в руках элит. Так или иначе, «борьба за умы» становится ключевой ареной противостояния политических сил в информационном обществе.
Список литературы Идея «культурной гегемонии» А. Грамши в работах франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно и Г. Маркузе)
- Грамши А. Избранные произведения: в 3 т. / пер. с итал. М., 1959. Т. 3 571 с.
- Грамши А., Лукач Д. Наука политики. Как управлять народом. М., 2017. 407 c.
- Грецкий М.Н. Антонио Грамши - политик и философ. М., 1991. 159 c.
- Зак С. Крестьянство и социализация земли. М., 1906. 62 c.
- Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу. М., 2000. 637 c.
- Кеннеди П. Готовясь к XXI веку // Иностранная литература. 1994. № 5. C. 225-236.
- Корш К. Марксизм и философия / пер. с нем. К.И. Цедербаум. Л.; М., 1924. 92 с.
- Лукач Г. История и классовое сознание: Исследование по марксистской диалектике / пер. с нем. С. Земляного. М., 2003. 413 с.
- Маркузе Г. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества. Ч. 1. Одномерное общество. М., 1994. С. 1-109.
- Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты / пер. с нем. М. Кузнецова. М.; СПб., 1997. 312 с.