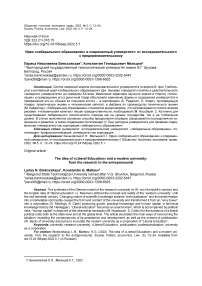Идея «либерального образования» и современный университет: от исследовательского к предпринимательскому
Автор: Биньковская Лариса Николаевна, Мальцев Константин Геннадьевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 5, 2022 года.
Бесплатный доступ
Синтез немецкой модели исследовательского университета (в версии В. фон Гумбольдта) и английской идеи «либерального образования» (Дж. Ньюмен) определял понятие и действительность «западного университета» до середины Хх века. Изменение характера научного знания в сторону «технизации» и превращение его в рыночный товар обусловили изменение формы и содержания университета и превращение его из «башни из слоновой кости» - в корпорацию (Б. Риддингс, Б. Кларк), производящую товары: практическое знание и человеческий капитал; в фабрику по производству технического знания (М. Хайдеггер). «Либеральное образование» становится анахронизмом, что сопровождается политическими рисками: «человеческий капитал» лишен гражданственности, необходимой (М. Нуссбаум, С. Коллини) для существования либерального политического порядка как на уровне государства, так и на глобальном уровне. В статье выясняются основные способы преодоления ситуации, раскрываются последствия ее сохранения и развития, а также содержание политизаций (У. Бек) дискурса университета для прививки современному университету как корпорации «либерального образования».
Университет, исследовательский университет, «либеральное образование», политизация, профессионализация, университет как корпорация
Короткий адрес: https://sciup.org/149140177
IDR: 149140177 | УДК: 323.21+316.75
Текст научной статьи Идея «либерального образования» и современный университет: от исследовательского к предпринимательскому
, ,
Введение . При перечислении «геополитических преимуществ» Запада в целом и США как «лидера» «свободного мира», а также наиболее значимых инструментов «мягкой силы», посредством которых отдельные страны стремятся «сделать мир более демократичным», З. Бжезинский (1998) всегда называл американские университеты; не будет преувеличением сказать, что в этом утверждении представлен устоявшийся консенсус «либеральной метафизики» (К. Шмитт (2016а)), соответствующей идеологии и политической мысли. Примерно в середине ХIХ века на «американскую почву» была перенесена модель немецкого «исследовательского университета», модернизированная и «творчески развитая» применительно к специфическим условиям либеральной демократии так, что университет включается большинством исследователей в число «основ» американской традиции и политического порядка . Сложнее обстоит дело с английскими университетами (не говоря уже о континентально-европейских), однако при всех имеющихся различиях в их организации суждение, что университет и «либеральная традиция» существенно связаны, то есть так, что одно не может существовать без другого, релевантно для всех без исключения позиций в отношении университета, кроме последовательной глобалистской (исключение при этом сопровождается рядом оговорок о «безусловной ценности» и необходимости «сохранения» либеральной университетской традиции). Концептуальной основой указанного единства мнений является понятие «либерального образования», впервые определенное кардиналом Дж.Г. Ньюменом (2006) в цикле статей «Идея университета» еще в середине ХIХ века. Вместе с тем в последние 30 лет все большее число исследователей, профессионально занимающихся высшим образованием, университетом как «гражданским институтом», равно как и профессора самых разных направлений научного знания (чаще гуманитарии, но не только) высказывают опасения, что «университет находится под угрозой» и едва ли не «уничтожается» современным «реформированием»: исследовательский университет последовательно превращается в предпринимательский, и в процессе такого преобразования утрачивается именно либеральное основание высшего образования . Последнее мыслится не только как «угроза самому университету» как месту науки , но и как политический вызов самому либеральному политическому порядку, который лишается одной из своих существенных опор . Университет как социальный институт и философский конструкт становится, таким образом, темой политических дискуссий . Однако в политическом дискурсе университета можно не удержать его понятие – именно оно является предметом нашего исследования в указанных связях и определенной перспективе.
Задачи настоящей статьи устанавливались исходя из социального места современного университета, взятого как «метафизическое/радикальное понятие» (К. Шмитт (2016б)), в действительности , определенной основоположениями «либеральной метафизики» и в аспекте политического . Мы стремились: во-первых, выявить необходимость преобразования исследовательского университета в предпринимательский в горизонте либеральной версии экономической парадигмы политического (термин Дж. Агамбена (2018)) и продемонстрировать , что названное преобразование является сутью становления собственной формы университета в действительности данной парадигмы; во-вторых, определить обусловленные этим для либерального политического порядка риски ; в-третьих, связать ключевые признаки предпринимательского университета с основоположениями «либеральной метафизики», определяющими то, что М. Хайдеггер называл современностью (Хайдеггер, 2020: 50) (то есть представить университет, имея в виду современный , а не тот, который называют классическим , и то, что между ними нет существенной связи , университет осознается как «радикальное понятие», в котором совмещаются реальное и действительное посредством выведения этого понятия из господствующей парадигмы современного Запада). Речь идет, таким образом, об исследовании понятия , методологический инструментарий которого разработан в первую очередь в философской герменевтике.
Понятие либерального образования и идея университета . Первым шагом к решению поставленных задач мы полагаем выявление основного содержания понятия либерального образования в его начале , то есть так, как оно определяется Дж. Ньюменом; необходимость обращения к началу , помимо философских оснований (ἀρχή – у греков) может быть подкреплена дополнительно тем, что, как мы уже сказали, к Ньюмену постоянно апеллируют те, кто пытается «защитить» университет от «разрушительной сиюминутности», представляющейся как «экономическая необходимость» и «требование эффективности» (ultima ratio «экономической парадигмы»).
Во вступлении к своим лекциям об университете Ньюмен сразу определяет, что «в основу» их им «положен следующий взгляд на университет»1: «Университет – место преподавания универсального знания» (Ньюмен, 2006: 10), то есть цель его – «интеллектуальная, а не духовная» (Ньюмен, 2006: 10). Будучи знаком с организацией науки своего времени, Ньюмен добавляет также, что различение между собственно «приращением знания», «ростом науки» и «распространением и продвижением знания» следует учитывать при планировании университета: преподавание - это «общение с внешним миром», «размышление» и «эксперимент», оно «требует уединения» (Ньюмен, 2006:13-14); «исследовать и обучать - разные задачи, предполагающие разные таланты» (Ньюмен, 2006: 13), «величайшие умы» «имели своеобразные привычки и в той или иной мере избегали лекционных залов и учебных заведений» (Ньюмен, 2006: 13). То есть можно подумать, что ньюменов-ский идеал не собственно «исследовательский университет», однако не следует торопиться с этим выводом: особенности организации науки и университетского преподавания в то время еще сохраняли, и то лишь отчасти, разделение между «академиями» и «университетами» (о которых писал, например, Шлейермахер (2018)), но это разделение не было существенным и довольно быстро сошло на нет (кстати, не в последнюю очередь по «экономическим причинам»: научные исследования все больше требовали специального оборудования и финансирования, и удобнее было «пристраивать» лаборатории именно при университетах; это стало давать преимущество и при подготовке студентов, которые вовлекались в исследовательскую работу «на месте»).
Тем не менее университет мыслился Ньюменом именно как место науки , во всяком случае в той степени, в какой его главная задача - воспитание, культура интеллекта (Ньюмен, 2006: 11) -не могла быть достигнута иначе, чем в непосредственном приобщении к форме научного знания и усвоении содержаний все более различающихся научных дисциплин.
Еще одно возможное недоразумение может быть связано с тем, что в том же введении к своим лекциям Ньюмен утверждает, что университетское образование, основанное на науке, ведет не к формированию определенного конструкта по «тому или иному ограниченному и фантастичному образцу, каковым может быть назван, например, так величаемый Английский Джентльмен», а к «развитию и укреплению определенных склонностей человека - нравственных и умственных» (Ньюмен, 2006: 11); в другом месте: «Нам недостает не манер и душевных качеств Джентльмена», которые можно приобрести «множеством иных способов», а «энергичности, стойкости, разносторонности и гибкости интеллекта, власти над своими способностями, мгновенного схватывания сути происходящего, то есть всего того, что иногда даровано от природы, но обыкновенно приобретается лишь усердием и многолетними упражнениями» (Ньюмен, 2006: 15). Но дальше он утверждает: «Либеральное образование формирует… Джентльмена. Хорошо быть Джентльменом» (Ньюмен, 2006: 113), - и определяет соответствующие человеческие качества как цель либерального образования: «Хорошо обладать развитым интеллектом, а также тонким вкусом, прямотой, беспристрастностью духа, возвышенностью и обходительностью в образе жизни - это все закономерные качественные особенности обширного знания» (Ньюмен, 2006: 113), и они «выступают предметами университета, который я отстаиваю» (Ньюмен, 2006: 113). Интеллектуальная культура, основанная на знании, не есть добродетель: «Знание - это одно, добродетель - это другое» (Ньюмен, 2006: 113); знания могут «оказаться у личности мирской, распущенной, бессердечной» (Ньюмен, 2006: 113); задачей либерального образования является не стремление «сделать человека совершенней» в нравственном отношении, но воспитание такой личности, чтобы перечисленные пороки оказались ей чужды (можно сказать, что в отношении нравственности либеральное образование имеет отрицательную, предохраняющую и гигиеническую, функцию).
Но интеллектуальная добродетель непосредственно связана с основанным на знании образованием. Эта традиция была жива во времена Ньюмена; более того, если можно говорить об «английской науке» (а на этом настаивает, например, современный исследователь Л. Гринфельд (2012), отмечая даже ее преимущество над континентальной), то сводится она по традиции, идущей от Ф. Бэкона, к утверждению неразрывной связи честного интеллектуального поиска и нравственных , то есть именно «джентльменских», качеств, которыми должен быть наделен ученый.
Б. Латур в работе «Нового времени не было» (Латур, 2006) выражает «странный взгляд», что ученый согласно этой традиции «должен быть джентльменом»; однако если полагать, что модель научного исследования королевский адвокат Ф. Бэкон выстраивал по аналогии с судебным процессом (Бэкон, 1946), в котором исследователи выступают как свидетели/очевидцы, на основании «показаний» которых и их «частных» наблюдений («частноутвердительные суждения») совершается невозможный с точки зрения формальной логики, но действительный (как вынесение приговора: применение общей нормы к частному случаю) переход к общеутвердительному суждению общего закона (от «наблюдений» к «законам природы»: индукция), то нравственные качества таких «свидетелей в процессе» имеют существенное значение, исходя из квалификации которых в числе прочего суд принимает во внимание и ранжирует по степени доверия их свидетельские показания: в английском суде доверяют джентльменам и их показаниям отдают преимущество перед прочими. Интеллектуальная честность, таким образом, как основа доверия к исследованиям коллег является одной из необходимых целей либерального образования; по аналогии и другие его цели также имеют существенное отношение к тому, что во времена, когда писал Ньюмен, обозначалось словом «джентльмен».
Задачей либерального образования (по традиции, которую тоже следует истолковать, что мы сделаем дальше, при переводе концепта Ньюмена используется именно слово «либеральный», а не «свободный» – прямое указание на существенное значение в этом случае политического аспекта ) является «правильная выучка ума»: «Когда ум правильно выучен, организован и обладает целостной картиной или образом вещей, он будет проявлять свои свойства с большим или меньшим успехом в зависимости от конкретных качеств и способностей индивида» (Ньюмен, 2006: 16), но «у всех он предстанет в виде способности сравнительно непринужденно вникать в любую мысль и легко овладевать любой наукой или профессией» (Ньюмен, 2006: 17). В этой связи даже без прямого практического назначения Ньюмен утверждает: «По моему глубокому убеждению, первым шагом в воспитании интеллекта является прочное запечатление в уме… идей науки, метода, порядка, принципа и системы, а также правил и исключений, красоты и гармонии» (Ньюмен, 2006: 17). Интеллект необходим – «это подготовка к знанию, это сообщение знания в прямой пропорции к подготовке. Нам требуются интеллектуальные органы зрения, чтобы ими познавать, как для способности видеть нужны обычные» (Ньюмен, 2006: 130). Либеральное образование, «рассматриваемое само по себе, есть просто возделывание интеллекта как такового, и предметом его выступает ни больше ни меньше, чем просто интеллектуальное превосходство» (Ньюмен, 2006: 113).
Именно через различение разума как цели и самоценности и его инструментальное применение мы можем подойти к «идее университета», которую утверждает Ньюмен: знание, ведущее к ремеслу (в самом широком смысле), «называется утилитарным знанием»; «рассудок, который служит источником сведений и сам имеет следствием философию» (Ньюмен, 2006: 105), называется им либеральным . Отсюда следуют два «метода образования»: «цель одного из них – философская, а другого – механическая, один возвышается до общих концепций, другой исчерпан тем, что является частным и поверхностным» (Ньюмен, 2006: 106); «принцип реального достоинства в знании, его ценность и значение, его желанность, рассматриваемые вне зависимости от результатов, это и есть тот фермент, который составляет суть научного и философского процессов» (Ньюмен, 2006: 106). Механическому знанию следует «обучать», философское – растет в размышлении; оба вида знания являются необходимыми, но университет есть то место , где происходит рост философского знания , к которому здесь приобщаются («обучаются», по Ньюмену, однако это не всегда подходящее слово) студенты.
Ньюмен прямо отождествляет университетское и либеральное образование (Ньюмен, 2006: 100), он утверждает основным мотивом получения такого образования желание учиться («множество студентов стремятся в университет ради него самого» (Ньюмен, 2006: 120)), то есть свободный рост и совершенствование интеллекта. Таким образом, университетское образование – это еще и существенно философское образование, по Ньюмену: вуз представлен в «двух основных отношениях» – «в отношении его студентов» и в «отношении учения в нем» (Ньюмен, 2006: 96). Поскольку знания, чтобы быть научными, предполагают в отношении себя определенную форму – единство, то обучение в университете требует подобного единства и определенной последовательности (Ньюмен очерчивает ее, например, утверждая, что начинать целесообразно с «грамматики» (Ньюмен, 2006: 17), а заканчивать поэзией и искусством вообще), чтобы студент «усвоил привычку прилагать метод, исходить из прочных оснований, обосновывать каждый свой шаг, проводить различие между известным и неизвестным» (Ньюмен, 2006: 18), чтобы затем «постепенно приобщиться к величайшим и истиннейшим философским системам» (Ньюмен, 2006: 18).
Мера и постепенность в обучении наукам должны соблюдаться, причем «науки нет, и появляется совсем иной предмет, едва лишь вместо рассмотрения ее как части целого переходят к тому смыслу, который заключает она в себе отдельно, без охранительного, как я это назову, влияния остальных» (Ньюмен, 2006: 96). Таким образом, «великим делом выступает расширение многообразия наук, которые университет преподает студентам» (Ньюмен, 2006: 97), – «это я считаю преимуществом единства места, рассматриваемого как место образования, пребывания всеобщего знания» (Ньюмен, 2006: 97). Помимо блага «близкого общения» и «интеллектуального мира», в которых профессора «учатся уважать, советоваться и оказывать друг другу помощь» (Ньюмен, 2006: 97), в университете таким образом «возникает чистая и ясная атмосфера мышления, которой также дышат и студенты»: «они черпают из интеллектуальной традиции, независимой от конкретных преподавателей, ведущей их в выборе предметов, а также позволяющей правильно понять те, которые ими выбираются. Они схватывают общие очертания знания, принципы, на которых оно строится, масштабы его частей, его света и тени, сильные моменты и незаметные, что невозможно понимать иными путями» (Ньюмен, 2006: 97).
Разумеется, Ньюмен предлагает иное представление философии как основания университета, чем это было у Канта или, особенно, у Фихте: он прямо говорит, что «в отсутствие общепринятого термина представляется возможным назвать совершенство или достоинство интеллекта философией, философским знанием, расширением души или просвещением» (Ньюмен, 2006: 117), но настаивает, что «прямое дело университета – сделать центром работы данный аспект интеллектуальной культуры, то есть заняться воспитанием интеллекта» (Ньюмен, 2006: 117), что «истинной и правильной целью интеллектуальной подготовки и университета выступает не научение и усвоение, а мышление и рассудок на основе знания» (Ньюмен, 2006: 127); эту задачу он называет «предметом университета».
Университетское образование является либеральным: «Приобретается способность души, которая остается на всю жизнь, чертами которой оказываются свобода, справедливость, спокойствие, умеренность и мудрость; или то, что я осмелился назвать философской привычкой, особым плодом образования, воспитываемым Университетом, в противоположность другим местам преподавания и способам обучения. Главное назначение Университета состоит в том, какими он воспитывает студентов» (Ньюмен, 2006: 98). «Процесс обучения некоему ремеслу или профессии либо учению или науке культивируется ради самого себя, ради восприятия предмета в самом себе и для собственной высшей культуры» (Ньюмен, 2006: 137), что и «является либеральным образованием» (Ньюмен, 2006: 137).
Знание, которое должен культивировать университет и к которому он должен приобщать студентов, не должно «являться лишь внешним и случайным преимуществом» (Ньюмен, 2006: 106), а также просто «усвоением книжных сведений», но если речь идет о знании как задаче университетского образования, то «такое знание есть состояние или особенность психики, а коль скоро культура психики достойна поиска ради нее самой, это не может не привести к заключению о том, что слова “либеральный” и “философия” предполагают именно это: существует знание, которое является желанным вне того, дает оно что-нибудь непосредственно или нет, ибо такое знание само является сокровищем и достаточным вознаграждением за годы трудов» (Ньюмен, 2006: 106–107).
Уже тогда главным возражением против такого понимания сущности университетского образования и против либерального образования вообще было «отсутствие непосредственной пользы», что, кстати, отчасти признает и сам Ньюмен. Более того, уже тогда был популярен вопрос «Какова рыночная стоимость товара, именуемого “свободное образование”». Однако польза от такого образования, по его мнению, хоть и не является непосредственной (для нужд профессии), но не менее значима. Ньюмен формулирует проблему таким образом: «Полезность может стать целью образования в двух отношениях: либо в отношении обучаемого индивида, либо по отношению к обществу вообще» (Ньюмен, 2006: 143). Для индивида таковой пользой следует полагать в первую очередь удовлетворение человеческой потребности в саморазвитии: «Таково построение души человека, что всякого вида знание, если оно таким является, выступает и наградой» (Ньюмен, 2006: 98), здесь Ньюменом усматривается также «эстетический аспект»: «Свободное знание есть понимание его как прекрасного» (Ньюмен, 2006: 188).
Однако и «социальная польза» от либерального образования, согласно Ньюмену, несомненна: «Образование интеллекта, которое служит лучшим интересам индивида само по себе, обеспечивает ему исполнение его долга перед обществом самым лучшим образом» (Ньюмен, 2006: 156), «подготовка в Университете выступает самым настоящим, обычным и великим сред- ством достижения великой, но обычной цели, она направлена на поднятие интеллектуального тонуса общества возделыванием общественной психики, очищением национального вкуса, обеспечением подлинных принципов народному воодушевлению и твердых целей народному чаянию, приданию роста и трезвости идеям века, способствованием осуществлению политической власти, и очищению общения в частной жизни» (Ньюмен, 2006: 156). Благодаря образованию, к людям приходит «ясное сознание в собственных взглядах и суждениях, в истинности их развития, в красноречии их выражения, силе их воплощения. Оно учит видеть вещи в истинном свете, находить сущность в деле, распутывать главное в мыслях, выявлять совершенное и отбрасывать второстепенное; подготавливает к занятию любого поста с достоинством и к овладению всяким предметом с легкостью; показывает человеку, как правильно приспособиться к другим людям, как понять их состояние души, как стать им понятным самому, как добиться взаимопонимания и наладить отношения» (Ньюмен, 2006: 156). Образованный человек не будет изгоем в любом обществе, он «всегда имеет общее с представителем любого класса, он знает, когда сказать и когда промолчать, он умеет беседовать и слушать, способен настаивать с вопросами и разумно принять урок, если ничего не может дать сам, он всегда готов и никогда не помеха, хороший товарищ и надежный партнер, знает меру серьезности и пустячности и обладает тактичностью, позволяющей изящно шутить и придать эффект серьезному поступку» (Ньюмен, 2006: 156). Его душевный мир позволяет ему оставаться счастливым и в своем отечестве, и за границей: «У него имеется дар, который служит и обществу и поддерживает его при отставке, без которого удачная судьба – всего лишь вульгарность и с которым даже в неудаче и разочаровании есть обаятельность. Искусство, которое направляет к этой цели человека, выступает предметом, который столь же полезен, как искусство богатства или искусство здоровья, хотя оно не столь доступно методически, менее осязаемо материально, менее надежно и менее совершенно вследствие этого» (Ньюмен, 2006: 156).
Таким образом, Ньюмен делает заключение об университете: «Предметом преподавания в нем должны служить все области знания; и эти области не изолированы друг от друга, но составляют вместе систему или целое, они перетекают друг в друга, взаимодополняя друг друга, и в меру нашего рассмотрения их как целого возникает сама точность и достоверность знаний, сообщаемых отдельно каждой из них; что процесс сообщения знаний интеллекту в этом философском плане есть подлинная культура; что знание, служащее и инструментом, и результатом, называется либеральным знанием, что такая культура вместе со знанием, сообщаемым с ее помощью, достойна, чтобы ее добивались ради нее самой, но что она составляет, кроме того, ценную самостоятельную светскую ценность, выступая лучшим и самым высшим образованием интеллекта в системе общественной и политической жизни; а также, наконец, что, рассматриваемое в религиозном аспекте, оно сопутствует в некотором плане христианству, оказывается в итоге подчас его полезным союзником, иногда же, по причине внешнего подобия ему, – его грозным и опасным врагом» (Ньюмен, 2006: 186–187), и, таким образом, идеей университета является «альма матер, знающая каждого ребенка в отдельности, а не литейный цех, не монетный двор и не штамповочная мастерская» (Ньюмен, 2006: 130).
От «исследовательского» к «предпринимательскому» университету: изучение необходимости . На первый взгляд, концепция либерального философского университетского образования (а значит, и «классического университета») не вписывается в действительность , представленную в либеральной версии экономической парадигмы политического, причем сразу в нескольких основополагающих ее аспектах.
Во-первых, экономизм как ее принцип предполагает, что все должно быть представлено через интересы , имеющие «экономический» смысл, то есть должно быть рассчитано . К. Шмитт утверждал, например, характеризуя «либеральную метафизику», что в «основу либерального “образа мыслей” положен такой, “который повсюду создает некоторое множество, чтобы в системе опосредствований на место абсолютного единства поместить равновесие как результат имманентной динамики”» (Шмитт, 2016а: 135). Этот же «образ мыслей» лежит и в основании новоевропейского способа «мыслить» вообще: «Из свободы договора, свободы торговли, свободы ремесел сами собой получаются социальная гармония интересов и наибольшее возможное изобилие» (Шмитт, 2016а: 129). Экономизм, «технико-экономическое мышление того рода, что господствует сегодня» (Шмитт, 2016б: 58), разрешают политику в управлении : Шмитт ссылается на М. Вебера (2016), который утверждал, что управление государством принципиально не отличается в либеральном представлении от управления большим предприятием, и, следовательно, «политика вообще не нужна» (сам Шмитт считал иначе). Это означает именно то, что для либерального образования и университета должна быть определена его рыночная цена, чтобы их принимать в расчет (М. Хайдеггер: «То, что не зафиксировано в правилах и не стоит в плане, не обладает действительностью» (Хайдеггер, 2018: 275)); университет «должен быть эффективен», он должен «предлагать продукты для рынка», участвовать в экономической конкуренции .
Во-вторых, политическая ценность «либерально образованного индивида» также должна иметь рыночную цену, то есть он должен быть принципиально представлен как человеческий капитал (Мальцев, Мальцева, 2020), как рыночный продукт , производимый университетом наряду с другим продуктом – практическим знанием ; в этом отношении речь идет именно не об «индивидуальном», а о «фабричном» производстве в университете, как «на монетном дворе» или в «штамповочной мастерской». Либеральное образование просто экономически невозможно , да и не нужно для рынка, помимо того, что оно «неоправданно дорого».
В-третьих, экономическая парадигма существенно универсальна и глобальна , не предполагает никаких границ , в том числе между государствами, препятствующих установлению глобального порядка (Мальцев и др., 2020); в многочисленных дискуссиях об устойчивом развитии, например, университет рассматривается в первую очередь как важный инструмент глобализации (Maltsev, …, et al., 2021а, b), – гражданственность «либерального индивида» больше не относится непосредственно к государству, но последнее полагается посредником между индивидами, их группами и глобальным порядком (З. Бауман (2004): государства считаются «полицейскими участками», поддерживающими мировой порядок и надзирающими за исполнением его правил; поэтому университет должен быть глобально унифицирован, а его целью должна стать подготовка специалистов, востребованных на международном рынке; существует также глобальный рынок университетского образования, в который должны быть встроены национальные университеты (Д. Салми (2009)). Первым об этом написал Б. Ридингс: происходит американизация университета как института в действительности, определенной либеральной экономической парадигмой (Ридингс, 2010). Ему вторит Т. Иглтон: «То, что возникло в Британии, можно назвать американизацией без богатства» (Иглтон, 2015: 20). Термин «американизация» использовался еще М. Хайдеггером в 30-е годы ХХ века; у него он тогда означал точно то, что имел в виду Ридингс, когда писал о «конце университета». Хайдеггер отмечал: «Подлинным зачинателем единства планетаризма и идиотизма, но также поистине достойным их наследником является американизм – пожалуй, пустейшая фигура “историографической” безысторичности» (Хайдеггер, 2020: 312). Следует также заметить, что если Хайдеггер не тот автор, с которым принято считаться в современной либеральной социальной науке, то, например, Ж.-Ф. Лиотар еще в 1979 году, составляя по заказу правительства одной из провинций Канады доклад об университетском образовании (издан как «Состояние постмодерна» (Лиотар, 1998)), констатировал два обстоятельства, фатальные для «классического университета» и «либерального образования»: во-первых, университет утратил достоинство быть «центром национальной жизни», прежде всего из-за «исчезновения» последней в том виде, которая поддерживала университет (концепции: «национальный университет» Фихте и «немцы как университетская нация» (Алавердян и др., 2021)); во-вторых, изменилось то, что называлось наукой : Лиотар, без ссылки на Хайдеггера, пишет о том, что современная наука определяется идеей техники , а значит, должна иметь другой, неуниверситетский принцип организации, в связи с чем меняются форма и содержание образования (Лиотар, 1998).
Собственно говоря, вполне либеральные социологи не отрицают «законных требований» и даже очевидностей , представленных в экономической парадигме. З. Бауман (2004), на которого мы сослались, утверждает, правда, что безграничное господство интересов капитала разрушает социальное ; ему вторит У. Бек (2001), который отмечал, что необходимость и объективность «тотальной экономической монокаузальности» очевидна . Однако этот же философ одним из первых заговорил о «правах социального» и о необходимости «ограничить» «тотальную логику капитала» посредством политизаций : логика, «обратная» той, в которой движется «либеральная метафизика».
Именно это направление «защиты университета» от «рынка», то есть от совершившегося и необходимого перехода от «классического исследовательского» к «предпринимательскому» университету, превалирует в современной литературе об университете тех авторов, которые полагают рискованным отказаться совсем от либерального образования. Либеральное, то есть философское и в целом гуманитарное, образование здесь представляется социальной ценностью и политической необходимостью для сохранения самой либеральности политического порядка Запада (неважно, на «национальном» или уже на «глобальном» уровне; заметим, что сторонники данного направления уверены в возможности «глобальной демократии», по крайней мере, как своего рода «регулятивной идеи»).
Здесь можно выделить два основных аспекта. Во-первых, утверждается, что вместе с философией (гуманитарным знанием – здесь философия понимается как одна из научных дисциплин, а не так, как представлял ее Ньюмен (2006)) университет рискует утратить даже и «эффективную науку». Иглтон констатирует повсеместную «медленную смерть университета как центра человеческого критического суждения» (Иглтон, 2015: 20). Но существующие системы «расчета эффективности» научных исследований, и не только в гуманитарных науках, приводят к появлению «причин обеспечивать что-то для производства, штампуя крайне бесполезные статьи, в том числе в ненужных онлайн-журналах, почтительно прибегая к внешним грантам на исследования вне зависимости от того, нужны ли они в действительности, и проводя время от времени по часу, набивая дополнительные фразы в свои резюме» (Иглтон, 2015: 22).
Но, повторим, главный акцент делается на «социальной ценности» и «политической необходимости». Традиционное университетское образование никогда «не считалось товаром, который продаётся и покупается» (Иглтон, 2015: 25), его общественная функция (социальное благо) состоит в другом: «Образование молодёжи, как и защита её от серийных убийц, должно считаться вопросом социальной ответственности, а не средством получения прибыли» (Иглтон, 2015: 25). Иглтон пишет, что «дистанция между университетом и обществом (обвинение университета в том, что он – “башня из слоновой кости”, бесполезная для общества) могла быть как пагубной, так и плодотворной», «позволив размышлять о ценностях, целях и интересах социального порядка, слишком неистово привязанного к своим краткосрочным практическим стремлениям, чтобы быть способным на самокритику» (Иглтон, 2015: 20), и констатирует, что «по всему свету это значительное расстояние теперь уменьшается почти до нуля» (Иглтон, 2015: 20), а «институты», в том числе университет, которые раскрывали возможность критики, «капитулируют перед жёсткими приоритетами глобального капитализма» (Иглтон, 2015: 20). Университет был «одной из немногих областей современного общества», «в которых господствующая идеология могла бы подвергаться некому строгому рассмотрению» (Иглтон, 2015: 25–26). Эта функция вуза была социально много важнее, чем нынешнее, исходящее из принципа «непосредственной экономической эффективности» требование «зарабатывать»: «Философы всегда могли устроить семинар о смысле жизни на углу улицы, а современные лингвисты – на стратегических общественных местах, где может потребоваться чуть-чуть перевода» (Иглтон, 2015: 25). То, что называется сейчас «экономикой знаний», как считает Иглтон, ориентировано именно на приведенное выше понимание «экономической эффективности». Безусловно, «образование… должно откликаться на нужды общества» (Иглтон, 2015: 24), но «это не то же самое, что считаться станцией обслуживания неокапитализма» (Иглтон, 2015: 24).
М. Нуссбаум выстраивает свою защиту необходимости сохранения либерального образования (даже в «преобразованном университете») на утверждении, что «гуманитарные науки и различные виды искусства играют ключевую роль в истории демократии» (Нуссбаум, 2014: 3). Это особенно интересно тем, что философ одновременно защищает и демократию (приверженность либеральным ценностям граждан государства ), и глобалистские настроения в высшем образовании: целью его должно стать «воспитание граждан мира» (Нуссбаум, 2014: 5), то есть аргументы Нуссбаум могут иметь силу в господствующей на Западе глобалистской перспективе. Она констатирует «мировой кризис», который в «долгосрочной перспективе грозит демократическому самоуправлению значительными разрушениями», – это «всемирный кризис в образовании» (Нуссбаум, 2014: 6), которому мы еще не придаем подобающего значения и «даже не осознали его» (Нуссбаум, 2014: 7); это «мы» примечательно в том числе потому, что, например, Хайдеггер еще в 30-е годы ХХ века констатировал «смерть университета», но тогда эта «смерть» еще не угрожала непосредственно либеральному порядку.
Наконец, нужно сохранить в вузах поэзию и искусство: они развивают воображение, а без него невозможно понимание между людьми: «Сюжетное воображение – это способность поставить себя на место другого человека, осмысленно воспринять его историю и понять, какие чувства и желания могут возникнуть у того, кто оказался в таком положении» (Нуссбаум, 2014: 54). Нуссбаум утверждает: «Воспитание сочувствия всегда стояло в центре важнейших современных теорий демократического образования, созданных в рамках западной цивилизации или за ее пределами» (Нуссбаум, 2014: 54). Вывод – либеральное образование политически ценно и должно быть «удержано в университете» даже просто в «интересах самосохранения» «западной» («демократической») идентичности.
С. Коллини (2016) формулирует проблему «защиты классического университета» принципиально , когда утверждает, что вопрос «Зачем нужен университет» следует ставить аналогично вопросу, когда-то сформулированному Дж.М. Кейнсом: «Зачем нужна экономика?». Набор его «ответов» принципиально не отличается от тех, которые были приведены выше; разве что акцент на «самоценность знания», на которой настаивал Ньюмен, у него выражен более отчетливо. «Зачем университет?» – не вопрос «экономической эффективности» (как и вопрос Кейнса об экономике): это в первую очередь вопрос о человеке , затем – о «социальной ценности» и «социальной ответственности».
Заключение. Имеют ли «политизации» силу остановить или обратить вспять «тотализиру-ющую логику капитала» (У. Бек (2001)), или они могут только «отложить», «смягчить», «дать время приспособиться» и «исправить наиболее неприемлемые последствия» – однозначного ответа в современной полемике критиков «разрушения университета» и сторонников «сохранения либерального образования» нет. Предпринимательский университет как фабрика по производству технического (в хайдеггеровском смысле) знания и человеческого капитала (Биньковская, Мальцев, 2021б) есть «метафизическое понятие», то есть такое, в котором реальное и действительное совмещены. Одновременно это понятие вписано в господствующую либеральную экономическую парадигму, то есть отмечено необходимостью и является действительностью. Хайдеггер, констатировав, что «университет умер в 1890 году» (Хайдеггер, 2016: 467), в 30-е годы ХХ века указывал на неизбежность замены образования как «подготовки к знанию» профессиональным, ремесленным обучением; университетов – техническими школами, объединенными внешне для «административного удобства» по модели цехов, составляющих фабрику, то есть на действительность того, что 30 лет назад получило название «предпринимательского университета». Его «модель» была сконструирована Б. Ридингсом в работе «Университет в руинах» (Ридингс, 2010), «уточнена» Б. Кларком в книге «Создание предпринимательских университетов» (Кларк, 2011б) и с того времени поддерживается в бесчисленных публикациях о «создании университетов мирового класса», о «приближении науки и обучения к производству» и необходимо- сти соответствовать «запросам рынка». «Национальные системы образования» (как их описывает и оценивает Б. Кларк (Кларк, 2011а) например), в том числе университеты, конечно, будут сохранять «особенные черты», но только как «элемент культурного многообразия», так любимый либеральной идеологией, то есть исключительно в той степени, в какой данные особенности «нейтральны» по отношению к «рыночным императивам» (Биньковская, Мальцев, 2021а; Ло-мако, Мальцев, 2021). Единственное, что пока еще «тормозит процесс» рыночной глобализации университетского образования и «свободной конкуренции» между университетами – интересы безопасности, то есть сопротивление либеральной глобализации. Именно это действительно и относительно эффективно сдерживает «свободный рынок» и, несмотря на идеологию, обеспечивает финансирование фундаментальной науки государством (в самых рыночных государствах, например, в США, по расчетам Б. Латура (2013), оно составляет 95 % при одновременном требовании к другим странам «придерживаться рыночных принципов финансирования» и ограничить «государственное вмешательство в образование»), но эти факторы воздействия на траекторию «реформирования университета» и ограничения действительности предпринимательского университета – предмет особенного рассмотрения.
Парадигма не допускает «исключений», она одновременно универсальна и тотальна и представляет действительность как таковую . М. Хайдеггер писал, что у «последнего завершающего периода нового времени» («эпохи нигилизма») не может быть «своей смерти»: современность обречена на «бесконечное дление того же самого» (Хайдеггер, 2020), – пока он всегда оказывался прав.
Список литературы Идея «либерального образования» и современный университет: от исследовательского к предпринимательскому
- Агамбен Дж. Царство и слава. К теологической генеалогии экономики и управления. М. ; СПб., 2018. 552 с.
- Алавердян А.Л., Биньковская Л.Н., Мальцев К.Г. «Культурная нация» и «университет культуры»: опыт интерпретации онтополитического основания единства // Общество: политика, экономика, право. 2021. № 6 (95). С. 13-25. https://doi.org/10.24158/pep.2021.6.1
- Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М., 2004. 188 с.
- Бек У. Что такое глобализация. М., 2001. 304 с.
- Бжезинский З. Великая шахматная доска (господство Америки и его геостратегические императивы). М., 1998. 112 с.
- Биньковская Л.Н., Мальцев К.Г. Современная культура как культурная политика: М. Хайдеггер о культуре как «феномене современности» // Евразийский юридический журнал. 2021а. № 3 (154). С. 464-470. https://doi.org/10.46320/2073-4506-2021 -3-154-464-470
- Биньковская Л.Н., Мальцев К.Г. Странная «смерть университета»: опыт философской интерпретации // Общество: философия, история, культура. 2021б. № 4 (84). С. 21-26. https://doi.org/10.24158/fik.2021.4.2
- Бэкон Ф. Избранные философские произведения. М., 1946. 241 с.
- Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии : в 4 т. М., 2016. T. 4. 542 с.
- Гринфельд Л. Национализм. Пять путей к современности. М., 2012. 528 с.
- Иглтон Т. Медленная смерть университета // Совет ректоров. 2015. № 4. С. 19-26.
- Кларк Б.Р. Система высшего образования: академическая организация в кросс-национальной перспективе. М., 2011а. 360 с.
- Кларк Б.Р. Создание предпринимательских университетов: организационные направления трансформации. М., 2011 б. 240 с.
- Коллини С. Зачем нужны университеты? М., 2016. 264 с.
- Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества. СПб., 2013. 414 с.
- Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб., 2006. 240 с.
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М. ; СПб., 1998. 160 с.
- Ломако Л.Л., Мальцев К.Г. «Культурные особенности»: политизация, деполитизация и глобальный порядок // Евразийский юридический журнал. 2021. № 3 (154). С. 485-490. https://doi.org/10.46320/2073-4506-2021-3-154-485-490
- Мальцев К.Г., Мальцева А.В. «Человеческий капитал» как концепт биополитики: опыт философского истолкования // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2020. Т. 10, № 5. С. 242-252.
- Мальцев К.Г., Мальцева А.В., Ломако Л.Л. Глобализация и вестернизация: горизонты «отождествления» и «различения» // Социально-политические науки. 2020. Т. 10, № 5. С. 106-114. https://doi.org/10.33693/2223-0092-2020-10-5-106-114
- Нуссбаум М. Не ради прибыли: зачем демократии нужны гуманитарные науки. М., 2014. 182 с.
- Ньюмен Дж. Г. Идея университета. Минск, 2006. 208 с.
- Ридингс Б. Университет в руинах. М., 2010. 299 с.
- Салми Д. Создание университетов мирового класса. М., 2009. 134 с.
- Хайдеггер М. Размышления 11—VI (Черные тетради 1931-1938). М., 2016. 584 с.
- Хайдеггер М. Размышления VII-XI (Черные тетради 1938-1939). М., 2018. 528 с.
- Хайдеггер М. Размышления ХИ-XV (Черные тетради 1939-1941). М., 2020. 344 с.
- Шлейермахер Ф. Нечаянные мысли о духе немецких университетов. М., 2018. 207 с.
- Шмитт К. Духовно-историческое состояние современного парламентаризма // Понятие политического. СПб., 2016а. С. 93-170.
- Шмитт К. Политическая теология // Понятие политического. СПб., 2016б. С. 5-59.
- Maltsev K., Binkovskaya L., Maltseva A. «Liberal Education» in the Globalizing Modernity in the Perspective of Sustainable Development: the Experience of Philosophical Interpretation // SHS Web of Conferences. 2021а. Vol. 128. Р. 05004. https://doi.org/10.1051/shsconf/202112805004
- Maltsev K., Binkovskaya L., Maltseva A. Representing «University Education» in the Horizon of the Concept of Sustainable Development and Security Discourse // E3S Web of Conferences. 2021 b. Vol. 295. Р. 05003. https://doi.org/10.1051 /e3sconf/202129505003.