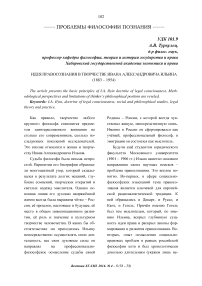Идея правосознания в творчестве Ивана Александровича Ильина (1883 - 1954)
Автор: Туркулец А.В.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Проблемы философии познания
Статья в выпуске: 4-5, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены основные принципы I.A. Ильинское учение о правосознании. Удивлены методологические перспективы и ограничения философского положения мыслителя.
Короткий адрес: https://sciup.org/14319855
IDR: 14319855
Текст научной статьи Идея правосознания в творчестве Ивана Александровича Ильина (1883 - 1954)
Как правило, творчество любого крупного философа становится предметом заинтересованного внимания не столько его современников, сколько последующих поколений исследователей. Это вполне относится к жизни и творчеству Ивана Александровича Ильина.
Судьба философа была весьма непростой. Перипетии его биографии образовали многоцветный узор, который складывался в результате долгих исканий, глубоких сомнений, творческих открытий и светлых надежд мыслителя. Однако основная линия его духовно напряжённой жизни всегда была выражена чётко – Россия, её прошлое, настоящее и будущее, её место в общем цивилизационном развитии, её роль и значение в культурном творчестве человечества. В каких бы обстоятельствах ни приходилось Ильину непосредственно осуществлять свою деятельность, все свои духовные силы он направлял на профессиональнофилософское осмысление судьбы своей
Родины – России, с которой всегда чувствовал живую, непосредственную связь. Именно в России он сформировался как учёный, профессиональный философ, в эмиграции он состоялся как мыслитель.
Будучи ещё студентом юридического факультета Московского университета (1901 – 1906 гг.) Ильин наметил основное направление своих научных поисков – проблема правосознания. Это вполне понятно. Во-первых, в сфере социальнофилософских изысканий тема правосознания является ключевой для европейской рационалистической традиции. К ней обращались и Декарт, и Руссо, и Кант, и Гегель. Причём именно Гегель был тем мыслителем, который, по мнению Ильина, вскрыл глубинную сущность идеи права и раскрыл законы формирования и развития правосознания. Во-вторых, опыт осмысления социальноправовых проблем в рамках российской философии хотя и был хронологически довольно длительным (укажем лишь не- сколько известных имён: митрополит Илларион (XI в.), Максим Грек (кон. XV – сер. XVI вв.), Юрий Крижанич (XVII в.), Семён Ефимович Десницкий (XVIII в.), Пётр Григорьевич Редькин (XIX в.), Борис Николаевич Чичерин (сер. XIX – нач. XX вв.), Павел Иванович Новгородцев (кон. XIX – нач. XX вв.), однако тематически аспект правосознания не был полноценно осмыслен и разработан. В-третьих, традиции обучения на юридическом факультете Московского университета требовали от студентов не только широких знаний позитивного права (содержание законов, норм, постановлений и решений власти), но формировали и философско-правовую направленность их мышления, развивали навыки профессиональной рефлексии. В-четвёртых, не последнее значение имеет и то обстоятельство, что отец Ильина (Александр Иванович Ильин) был губернским секретарём, присяжным поверенным округа Московской судебной палаты. Профессиональная деятельность отца вызывала неподдельный интерес и личную заинтересованность молодого человека, служила мотивом для попыток самостоятельно разобраться в сложных взаимосвязях правовой теории и практики, в диалектике их исторического развития.
Ещё раз подчеркнём, что становление Ильина как учёного и мыслителя проходило именно в русле исследования проблемы правосознания. Эта тема была предметом его заграничной стажировки в ведущих университетах Европы (1911 – 1912 гг.), а также одной из основных тематических линий его преподавательской деятельности в учебных заведениях
Москвы (Московский университет, Московские высшие женские юридические курсы, Московский коммерческий институт). В сложный для России период Первой мировой войны Ильин открыто и прямо заявляет, что «непобедившая Россия будет разгромленной, униженной и рабской Россией, лишённой правосознания , и разнузданной» [2, с. 19]. В своих публичных выступлениях он призывает к единению и консолидации властных институтов и широких народных масс, всех духовных сил страны в противодействии внешним и внутренним врагам.
После революционных событий октября 1917 г. в творчестве Ильина намечается своеобразный перелом. Мыслитель стремится не только словом, но и своим непосредственным участием способствовать преодолению, как он считал, разрушительного для России большевистского диктата. Он был обвинён новыми властями в причастности к контрреволюционной организации, содействовавшей формированию Добровольческой армии. Данное направление деятельности Ильина не является предметом нашего внимания. Однако характерно, что в течение ряда лет (с мая 1918 г. по сентябрь 1922 г.), пока длились многочисленные расследования и проводились неоднократные аресты, Ильин не переставал заниматься исследованиями правосознания. В 1919 г. он завершает работу над ключевым произведением по данной тематике «О сущности правосознания». В своих публичных выступлениях того периода он неоднократно затрагивает эту тему. Так, на заседании
Московского юридического общества весной 1922 г. Ильин выступил с речью «Основные задачи правоведения в России». Здесь он указывает на три взаимосвязанных задачи: историкообъяснительную, философско-научную, жизненно-государственную. Основой решения этих задач является, по мнению Ильина, адекватное понимание сущности правосознания и всесторонний анализ его реалий. Даже находясь в заключении, подвергаясь многочисленным допросам, Ильин не перестаёт подчёркивать значимость своих исследований. Например, в феврале 1920 г., во время очередного ареста, отвечая на вопрос следователя о политических убеждениях, Ильин сообщал: «Сочувствую всякой государственной власти, воспитывающей в народе нормальное правосознание » [2, с. 28]. А непосредственно перед самой высылкой из России на допросе четвёртого сентября 1922 г., отвечая на вопрос о своих взглядах и задачах интеллигенции и «так называемой общественности», Ильин ответил: «Задача интеллигенции – воспитать в себе новое мировоззрение и правосознание и научить ему других; задача старой русской общественности – понять свою несостоятельность и начать быть по-новому» [2, с. 37]. Это был уже шестой арест Ильина после Октябрьской революции. Он был приговорён к смертной казни, которую заменили высылкой из России.
В эмиграции Ильин не оставляет своих исследований. В течение одиннадцати лет (1923 –1934 гг.), будучи профессором
Русского научного института в Берлине, он развивает и углубляет данную тематику. После второй вынужденной эмиграции уже из Германии в Швейцарию (в 1938 г.) образ жизни Ильина приобретает более замкнутый характер, однако профессиональная деятельность мыслителя никогда не останавливалась. В швейцарский период своего творчества он пишет целый ряд значительных работ, в которых развивает тему правосознания: «Основы христианской культуры», «Основы борьбы за национальную Россию», «Что сулит миру расчленение России», «Аксиомы религиозного опыта», «Путь к очевидности».
Безусловно, творчество Ильина более объёмно и многогранно, чем тиражированные страницы его произведений. Мыслитель не укладывается в рамки своего «внешнего профессионального портрета». И сегодня остаётся ещё довольно обширный массив его рукописного наследия, который требует дальнейшего профессионального изучения.
Обратимся к анализу базовых принципов учения И.А. Ильина о правосознании.
Само понятие правосознания Ильин в начале своего исследования вводит, скорее, не аналитическим, формальнологическим, а дескриптивным образом. Он использует следующие описания феномена правосознания: «естественное чувство права и правоты», некая духовная «настроенность инстинкта в отношении к себе и к другим людям». Однако по мере дальнейшего развития темы Ильин конструирует развёрнутую дефиницию:
«Правосознание есть особого рода инстинктивное правочувствие , в котором человек утверждает свою собственную духовность и признаёт духовность других людей; отсюда и основные аксиомы правосознания : чувство собственного духовного достоинства, способность к самообя-зыванию и самоуправлению и взаимное уважение и доверие людей к друг другу. Эти аксиомы учат человека самостоянию, свободе, совместности, взаимности и солидарности. И прежде всего, и больше всего – духовной воле » [2, с. 232]. В этом ключевом определении заключены все дальнейшие предметные линии аргументации мыслителя. Здесь зашифрованы ограничения и противоречия его философской позиции. Ильин традиционно указывает на гносеологическое различие между «понятием о предмете» и «предметом самого понятия». В теме правосознания это воплощается в проблему соотношения видимости права и внутренней потребности в праве, что влечёт за собой целый шлейф философских диспозиций (сущность – явление, форма – содержание, объективное – субъективное, свобода – необходимость, естественное – искусственное, имманентное – трансцендентное, потенциальное – актуальное, цель – средства, чувство – разум и т.п.).
Наиболее полно это выражается в концептуальном противоречии между идеей и реальностью, должным и существующим. На языке профессиональной философии это проблема диалектической взаимосвязи двух смысловых горизонтов – деонтологи- ческого и онтологического. Как представитель рационалистической традиции в философии, Ильин принимает тезис: историческое содержание права не тождественно его объективной природе (сущности). Более того, развивая это положение, он приходит к выводу: нельзя отождествлять жизненную эффективность правого явления с его объективным содержанием (объективность не тождественна жизненной эффективности).
Другими словами, эмпирическую целесообразность нельзя отождествлять с совершенством (идеалом). Характерная цитата: «Исторические явления не подчиняются законам логики» [2, с. 382]. Однако философ считает, что простого указания на это несоответствие недостаточно. Недостаточно также только всячески анализировать, исследовать (препарировать) это несоответствие, всё более «разводя мосты» между идеей и реальностью. Следует профессионально работать над предметным решением этой проблемы. Будучи философом, Ильин свой долг видит в выработке теоретических принципов для этой работы. Своеобразным результатом выполнения этого долга и является его «аксиоматический метод», который Ильин широко использует в своих исследованиях (аксиомы религиозного опыта, аксиомы власти, аксиомы правосознания).
Критическое отступление. Для Ильина как последовательного гегельянца противоречие между идеей и реальностью разрешается не в пользу реальности. Последняя всегда ограничена своей видимой предметностью, своей «косной материальной формой». Следовательно, снять данное противоречие, по его мнению, можно лишь идеальнометафизически (в абстрактнотеоретическом плане, в духовной сфере, виртуально), а не материальнодиалектически, то есть посредством преобразования самой реальности материально-предметного мира. Заметим, что в теме соотношения идеального и реального узловым является вопрос о возможности взаимоперехода взаимоисключающих друг друга сторон противоречия. Другими словами, это проблема трансмутации, «перехода» от несовершенного к совершенному (и далее - к идеальному) и обратно. Причём в этом процессе стороны не просто меняются ролями, но происходит качественное преобразование их содержания, меняется и само представление о совершенном / несовершенном, идеальном / реальном. Включаясь в реальное движение по преобразованию мира, человек переустраивает и своё понимание этого мира, преобразует себя в процессе преобразования окружающей действительности. Эту практическую диалектику Ильин не затрагивает. Он советует человеку поступать как известный герой, который пытался тянуть себя за волосы (некую «макушечную сущность»), чтобы подняться из болота существования.
Само понятие «аксиома» используется Ильиным не в объективно-рациональном или узко формалистическом (традиционно научном) смысле, а как термин, указывающий на духовный ценностный аспект рассматриваемой темы. Для мыслителя «аксиома» выступает как некое базовое правило жизни, определённое кредо, «благородная первооснова» [1, с. 248]. Указанные выше аксиомы правосознания являются для Ильина не просто несомненными и исходными, но «священными основаниями права и государства» [2, с. 287].
Однако ценностное содержание аксиом (их нравственное оправдание) само по себе не может служить принципом построения развёрнутой системы теоретической аргументации. Ведь аксиомы должны выражать собой необходимые, существенные, устойчивые, повторяющиеся отношения между правовыми смыслами. Поэтому аксиомы, или, иначе, законы правосознания (закон духовного достоинства, закон автономии, закон взаимного признания), представляют интерес для Ильина лишь как некое теоретическое выражение необходимых мотивов и способов жизни. Аксиомы выступают для философа как предельные истины, непосредственно не вытекающие из жизненных реалий. Каждый видимый жизненный феномен нельзя объяснить этими аксиоматическими положениями. Более того, практические условия существования весьма далеки от исполнения данных законов, а жизненные действия человека не мотивированы данными установками. Они основания для «чистого разума», но не «живого сердца». Тем не менее Ильин настаивает, что эти законы духа незримо присутствуют в каждом движении чувства, в каждом решении воли, в каждом проявлении действия человека, даже когда сам человек не осознаёт их присутствия [2, с. 303]. Впрочем, такое утверждение вполне соответствует объективно идеалистической направленности философской позиции мыслителя.
Рассмотрим содержание первой аксиомы правосознания (самой важной в концепции Ильина). Она определяется как закон духовного достоинства, личного духовного самоутверждения, самоуважения. Мыслитель утверждает, что каждому человеку, кем бы он ни был, чем бы он ни занимался, как глубочайшая основа его бытия и деятельности присущи духовное достоинство и живое чувствование его в самом себе. «Человек, даже самый первобытный, таит в себе волю к духу, форму духа и способность к духу » [2, с. 304].
С точки зрения Ильина, источником достоинства человека является личный духовный опыт. С эти трудно не согласиться. Конечно, только личный духовный опыт порождает в душе человека чувство собственного достоинства. Причём этот опыт может быть разного содержания. Например, опыт учёного связан с осознанием истины, опыт художника – с созерцанием и служением красоте, опыт верующего – с обретением в своей душе «божественного образа». Главным здесь является твёрдая уверенность человека в абсолютной ценности того предмета, которому он готов служить всем своим существом. И не столь важно, в какой кон- кретной форме эта уверенность находит своё видимое воплощение. «Самоутверждение души в абсолютно-ценном предмете – всегда было и всегда будет единственным источником чувства собственного духовного достоинства» [2, с. 305].
Критическое отступление . В обоснование значимости данной истины правосознания Ильин использует своеобразную гносеологическую уловку: аксиома предполагает понятийное осознание и логическую аргументацию своей применимости, содержательной непротиворечивости и пр. Однако направлена она на обоснование не логического рационального феномена, а на оправдание чувства («чувства собственного духовного достоинства»), то есть иррационального аспекта духовного переживания. Здесь неявно затрагивается довольно «больная тема» для всей европейской философии – проблема соотношения рационального и иррационального.
Без личного духовного самоутверждения человек не способен реализовывать свои общественные полномочия, исполнять общественные обязанности, соблюдать общественные запретности (правовые, политические, имущественные и пр.). Ильин отмечает, что в реальной жизни у человека формируется множество разнообразных и зачастую разнонаправленных мотивов, желаний, стимулов, интересов, целей. Поэтому, чтобы обрести своё достоинство и не потерять его, человек должен создать определённую градацию целей по их ценности и всегда видеть перед собой безусловную и общую для всех людей духовную цель права. С точки зрения Ильина, «такую основу огромное большинство людей может найти только в религии, которая есть доступ к духу даже самой элементарной душе. Вот почему живая религия всегда была самым могучим и верным источником достойного правосознания, и история человечества не раз показывала, как народ, забывший Бога, разрушал своё государство» [2, с. 310].
Подлинная же государственная власть (то есть власть, отвечающая своей духовной сути) служит объективному благу, «она связана законом Божиим и совестью; её миссия верна и обоснована в последнем, безусловном измерении, и именно в этом смысле «нет власти, аще не от Бога»» [2, с. 336].
По мере развития своего исследования Ильин последовательно проводит идею, что только истинная религиозность утверждает в душе человека «аксиоматические корни правосознания». Он прямо утверждает: «Религиозный гражданин соединяет в душе своей силу подлинной религиозности с силою здорового и верного правосознания , и притом так, что правосознание его является зрелым проявлением его религиозности » [2, с. 387]. Такая установка вполне объяснима для религиозного христианского мыслителя, которым Ильин, несомненно, был.
Для адекватного понимания учения И.А. Ильина крайне важно отметить следующее. Мыслитель не создаёт картину некоего идеального правосознания, которое фундировано предельными истинами- законами. Он указывает также на дефекты или недуги данных аксиом, которые при определённых обстоятельствах приводят либо к девальвации самой идеи правосознания, либо к её многообразным девиациям. Так к недугам духовного самоутверждения мыслитель относит широко распространившиеся суррогаты: мечтательное воображение о «собственном предназначении» (избранничество), пустую гордость, формализованную честь, стереотипы общественного мнения и пр.
Наиболее болезненными для первой аксиомы являются три дефекта правосознания:
-
1. Дефект самостоятельности. Человек уважает себя лишь постольку, поскольку его уважают другие. Духовное самочувствие такого человека зависит от чужих мнений. По мнению Ильина, такой человек, по сути, не уважает себя [2, с. 317].
-
2. Дефект предметности. Человек уважает себя, но лишь за мнимые, поверхностные качества, не имеющие отношение к его истинной духовной сути. По мнению Ильина, такой человек, по сути, уважает не себя [2, с. 317].
-
3. Дефект воли. В данном случае человек привыкает к духовному унижению, теряет веру в себя, не может противостоять собственным страстям или чужой воле. Зачастую он даже находит удовольствие в таком состоянии. С полным правом Ильин характеризует такого человека как раба (рабствующее правосознание) [2, с. 318].
Эти дефекты приводят к тому, что личность не способна самостоятельно определять свои жизнь и судьбу. Здесь воля превращается в упрямство, уважение к себе – в самолюбие, чувство собственного достоинства – в тщеславие. Душа вырождается. Растерянность, сомнение, беспринципность, трусость, покорность, пошлость, продажность, корыстность, предательство приводят к душевному самоотвержению и духовному увечью.
Вторая аксиома правосознания (или, иначе, закон личной автономии, личного духовного самообязывания и самоуправления) выражена в формуле: каждый человек как духовное существо способен определять себя и управлять собой, то есть иметь силу осуществлять деятельность, направленную к благим целям. Он способен к внутреннему самоуправлению, к духовной, волевой самодисциплине. Здесь прямо утверждается, что человек способен к выработке собственных убеждений, к самоограничению, искреннему принятию ответственности за содеянное. Данная аксиома с необходимостью указывает на то, что «духовная жизнь есть самодеятельность» [2, с. 328]. Логика обоснования данной аксиомы идентична способам аргументации первой. Согласно Ильину, для того чтобы исполнить закон личной автономии, человек также должен принять некие безусловные ценности, сферы деятельного проявления которых которые могут быть весьма разнообразны. Например, для учёного безусловным ценностным приоритетом выступает поиск объективной истины, базирующийся на фактуальном обосновании своих открытий; для художника – стремление следовать законам подлинной красоты, выражая их в красках и пластичных формах; для предпринимателя – упрочение своего экономического состояния посредством использования конкретных механизмов хозяйствования.
Однако для реализации второй аксиомы одного личного духовного опыта недостаточно. Внутренняя автономия личности должна находить нестеснённое внешнее проявление в правовом признании и гарантированности личной свободы. Развивая своё обоснование, Ильин специально замечает, что сама по себе свобода не может служить приоритетом. Более того, чрезмерная свобода самоопределения может оказаться губительной для личности или даже народа, лишённого гражданского правосознания. Свобода без здорового духа, без адекватного правосознания – фальшь, фантом, иллюзия.
«Свобода совести священна, но она мертва и безразлична для того, кто живёт без веры и убеждений. Свобода слова есть драгоценное средство для формирования духа, но как предоставить её человеку, способному произносить лишь хулу и оскорбления? Свобода печати не есть право распространения лжи и клеветы; свобода собраний не есть право погрома; свобода собственности не есть право шиканы, то есть злоупотребления своей собственностью. Ибо всегда и во всём: внешняя автономия имеет смысл только как проявление внутренней автономии. Иными словами: правопорядок невозможен без правосознания, а правосознание требует духовной автономии. И обратно: именно духовная автономия обусловливает здоровое правосознание, и только такое правосознание способно вынести бремя внешней свободы» [2, с. 330].
Критическое отступление. В данном развёрнутом пассаже нас интересуют не очевидные формулировки известных правовых свобод, смыслами которых Ильин вполне традиционно оперирует, а способ обоснования данных свобод. Философ использует здесь приём так называемого «взаимообратного причинения» (или «обратной необходимости»), когда наступившее следствие обосновывает необходимость наличия определённой причины, которая в свою очередь требует наличия именно данного следствия. Для Ильина такими взаимообратными элементами являются свобода (духовная автономия) и правосознание. Возможно, для неподготовленного читателя данное обстоятельство не является ущербным в общей системе доводов мыслителя (скорее всего, неподготовленный читатель вообще не обратит на него своё внимание). Однако «круг в доказательстве» (который, надо сказать, явно присутствует и в других местах этого произведения) не является сильным местом в аргументации Ильина.
Вторая аксиома правосознания так же, как и первая, при определённых условиях может проявить свои скрытые дефекты (недуги):
-
1. Дефект самоуправления. Это проявляется в гражданской пассивности, подавленном безмолвии, запуганном самочувствии. Гражданин возлагает всю ответственность за собственное состояние на власть, одновременно надеется на то, что власть решит все его проблемы. Он способен лишь на бездеятельное критиканство и «привыкает жить на иждивении своей родины» [2, с. 341].
-
2. Дефект самодеятельности. Это проявляется в больном правосознании революционного подполья, иллюзиях «героической натуры», нигилистическом неприятии всякого правопорядка, ненависти к власти, ожесточении души. Дальнейшая деградация правосознания приводит к тому, что оно утрачивает свою автономность. Революционное правосознание «становится сплошным отрицанием, больным направлением воли и соответственно этому заполняется больными, духовно противоестественными, пагубными химерами»: отвержение религии, доминирование классового интереса, обслуживание партийных лозунгов, деморализация масс, «революционная нравственность» [2, с. 343].
-
3. Дефект самообладания. Это проявляется в политической и правовой симуляции. Формально оставаясь гражданином своего государства, человек «не сливается с ним волею, не приемлет его чувством, не служит ему сознанием» [2, с. 345]. В этом случае формально человека нельзя признать ни изменником, ни революционером. Он политический и правовой паразит, граждан-
- ский лицемер, симулянт, полупредатель своей родины.
Ильин специально отмечает, что недуги правосознания свойственны не только отдельным людям, но и гражданским союзам, общественным группам, государственной власти и даже целым народам. Например, наиболее трагично, с точки зрения мыслителя, дефект самообладания проявляется в случаях недобровольного присоединения покорённых наций.
Третья аксиома правосознания определяется как закон взаимного признания, взаимного доверия и уважения. Для Ильина совершить духовное признание человека – значит, во-первых, признать в нём безусловное духовное достоинство, на основе чего возникает уважение ; во-вторых, признать в нём волю к объективному благу, в результате чего возникает доверие .
Конечно, каждый нормальный человек желает, чтобы его ценили, уважали, любили, заботились о нём. Каждый хочет, чтобы ему доверяли, чтобы видели в нём не пассивного, а целеустремлённого, волевого субъекта.
Ильин искренне убеждён, что только человек как живой дух способен «к автономному волеизъявлению, к автономному самообязыванию перед лицом объективного блага» [2, с. 352]. Поэтому-то человек не является ни вещью, ни животным. Именно это обстоятельство является необходимой предпосылкой для взаимного признания. Однако, чтобы эта предпосылка получила практическую реализацию в сфере непосредственных правоот- ношений, самим людям (как субъектам данных отношений), в свою очередь, следует руководствоваться следующими принципами: 1) каждый из субъектов признаёт право как основу отношения (абсолютную форму жизни, объективно значащую идею); 2) каждый из субъектов признаёт свою духовность (достоинство и автономию); 3) каждый из субъектов признаёт духовность другого субъекта (его достоинство и автономию как силу для правотворчества). Эти принципы не обязательно всегда должны фиксироваться строго формальным образом. По мнению Ильина, в отдельных случаях вполне достаточно их молчаливого (несуетного) принятия взаимодействующими субъектами. В последнем случае правовое общение становится поистине духовным общением, что раскрывает духовное братство всех людей. Здесь проявляется единство идеи правопорядка и евангельского учения о любви: «ибо отношение «в праве» и отношение «в любви» являются одинаково разновидностью духовного признания» [2, с. 354]. Проповедь евангельского учения о любви Ильин обращает не только к отдельным людям. Помимо отдельных граждан, к возможным субъектам взаимного признания он причисляет и различные общественные группы, гражданские союзы, государственную власть, нации. Весьма важно отметить, что для Ильина акты взаимного признания и доверия выступают не просто как пассивные нормы, внешним образом регламентирующие правоотношения, но как требовательные установки, направленные на действенное духовное преобразование самих участников этих отношений. Ильин убеждён, что доверять человеку – значит не просто отмечать в нём благие намерения, добрые желания, но быть уверенным в том, что человек может противостоять дурным желаниям, бороться с низменными стремлениями, быть способным творчески и благородно овладеть бессознательными силами своей души, принять достойное решение, найти ему адекватное словесное оформление и осуществить соответствующий достойный поступок. В свою очередь, к недугам третьей аксиомы правосознания Ильин относит:
-
1. Дефект взаимного уважения. При наличии данного дефекта правосознания в обществе вполне может быть осуществим правопорядок, но это будет формальный, весьма условный или ненужный правопорядок, который утратил свой истинный духовный смысл. В этом случае за внешним лоском социальной солидарности скрывается всеобщая вражда, принимающая вид временного перемирия. «Неуважение, закреплённое враждою, становится презрением; вражда, усиленная презрением, превращается в ненависть; ненависть, сочетаясь с бессилием, заражает души злобным страхом. Если неуважение отвергает духовное достоинство человека, то презрение и ненависть отрицают его право на жизнь. Презрение само по себе уже есть отрицание права на жизнь; ненависть есть уже убийство » [2, с. 365]. Убийство может быть как символическим
-
2. Дефект взаимного доверия. Отсутствие некоторого минимума взаимного доверия влечёт общество и государство к разложению. Это проявляется во взаимном подозрении, которое губительно как для подозревающего, так и для подозреваемого (укрепляет в их душах страх, злобу, отчаяние, манию преследования, обман, ложь, раскол, вражду). «Если об-
- щественная жизнь полна взаимной вражды и подозрения, если ложь и обман не встречают ни осуждения, ни противодействия, если ум и интриганство становятся синонимами, если слово перестаёт быть честным, а честность превращается в предрассудок, если торговый оборот основывается на взаимном обмане, обмеривании, обвешивании и злостном банкротстве, если правовое общение слагается в атмосфере юридического релятивизма, корыстного кривотолка, злостного сутяжничества и беспринципной адвокатуры, если судьи, свидетели, чиновники и депутаты парламента подкупны, а политическая деятельность строится на интриге, если партии лгут друг другу, народу и правительству, а программы их превращаются в сплетение двусмысленностей, недомолвок и умолчаний, то неизбежно вырождается и гибнет нравственная основа правопорядка: взаимное духовное доверие» [2, с. 370]. Дефицит взаимного доверия наиболее опасен в эпоху социальных преобразований, глобальных исторических перемен. Особенно значимой данная тема является в настоящее время, которое насыщено новыми вызовами для человечества. Опыт анализа дефектов (недугов) правосознания в учении Ильина был творчески развит в последующих исследованиях российских и зарубежных учёных. Например, в современных трактовках принято выделять следующие деформации правосознания: правовой нигилизм, правовой инфантилизм, правовой дилетантизм, правовой фетишизм, правовая отчуждённость. Каждая из данных
(хула, проклятие), так и реальным (погромы, физическое уничтожение).
Такому состоянию правосознания (Ильин метафорически определяет его как «настроение Каина») соответствует и больной политический режим, воплощающийся в «полицейском» или тоталитарном государстве. Философ не скупится на отрицательные характеристики такого положения дел: мелочная опека, регламентации, шпионаж, преследования, интрига и обман, лесть и демагогия, страх и насилие, подкуп и узурпация, террор, массовые убийства. Гражданин в таком государстве превращается либо в раба, либо в революционера, либо совмещает в себе черты обоих. При данных обстоятельствах в лучшем случае в народе укрепляется наивное правосознание. «Наивное правосознание не отличает человека от государственного органа, органа от самой власти и даже власти от государства и распространяет своё отрицание, своё презрение сразу на всё: и в результате этого души заражаются глубоким противогосударственным настроением» [2, с. 368]. В худшем случае народ становится жертвой безраздельного духовного нигилизма.
деформаций имеет также крайнюю, умеренную и пассивную формы своего проявления.
Возможно, с точки зрения текущей современности начинания Ильина кажутся несколько утопическими, наивными, лишёнными возможности своего практического воплощения. Настоящее, как правило, весьма иронично и снисходительно смотрит на «своё прошлое». И это правильно. Но если ирония превращается в забвение истинных истоков своего существования, а снисхождение становится стереотипной нормой оценки достигнутого прошлыми поколениями, то у такого настоящего нет, и не может быть достойного будущего. Необходимо помнить, что творческий импульс исследовательского поиска, основные принципиальные установки в исследовании темы правосознания были заданы великим русским философом, мыслителем мирового значения Иваном Александровичем Ильиным.
Список литературы Идея правосознания в творчестве Ивана Александровича Ильина (1883 - 1954)
- Ильин И. А. Путь к очевидности. М.: Республика, 1993.
- Ильин И. А. Теория права и государства. М.: Зерцало, 2003.