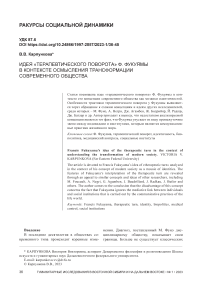Идея «терапевтического поворота» Ф. Фукуямы в контексте осмысления трансформации современного общества
Автор: Карпункова Виктория Викторовна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Ракурсы социальной динамики
Статья в выпуске: 1 (63), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена идее «терапевтического поворота» Ф. Фукуямы в контексте его концепции современного общества как мозаики идентичностей. Особенности трактовки терапевтического поворота у Фукуямы выявляются через обращение к схожим концепциям и идеям других исследователей, среди которых - М. Фуко, А. Негри, Дж. Агамбен, Ж. Бодрийяр, Й. Радкау, Дж. Батлер и др. Автор приходит к выводу, что недостатком анализируемой концепции является тот факт, что Фукуяма упускает из виду промежуточное звено между индивидами и институтами, которым являются коммуникативные практики жизненного мира.
Ф. фукуяма, терапевтический поворот, идентичность, биополитика, медицинский контроль, социальные институты
Короткий адрес: https://sciup.org/170198097
IDR: 170198097 | УДК: 87.6 | DOI: 10.24866/1997-2857/2023-1/36-45
Текст научной статьи Идея «терапевтического поворота» Ф. Фукуямы в контексте осмысления трансформации современного общества
В последние десятилетия в обществах современного типа происходят коренные изме- нения. Диагноз, поставленный М. Фуко дисциплинарному обществу, показывает свои границы. Больше не существует классических дисциплинарных пространств изоляции, и механизмы власти осуществляются иначе. Изменения жизненных практик приводят к кризису установленного социального порядка, поскольку развитие индивидуалистических тенденций влечет за собой трансформацию запросов, предъявляемых человеком системе. Вместе с тем, ожидаемо, появляются квазидисциплинар-ные формы контроля за жизнедеятельностью индивидов. Если раньше дисциплинарность погружала человека в однородное пространство общих правил, то теперь все большее значение приобретают индивидуалистические ценности и принцип удовлетворения желаний. Это именно те обстоятельства, на которых акцентирует внимание Ф. Фукуяма. Одним из самых характерных проявлений этой тенденции становится терапевтическое или психотерапевтическое сопровождение траектории человеческой жизни, которое, следуя логике М. Фуко, Фукуяма называет терапевтическим поворотом. Сам Фукуяма не дает развернутой трактовки данного понятия, однако мы считаем возможным раскрыть перспективы подобного взгляда на состояние современного человека и общества, поскольку не только Фукуяма, но и ряд других исследователей обращают внимание на эту тенденцию. Среди авторов, затронувших данную проблематику в своих работах, – Ж. Бодрийяр, Й. Радкау, Дж. Батлер и др.
Раскрыть перспективы использования данной идеи Ф. Фукуямы для осмысления трансформации современного общества нам поможет метод аналитического расслоения модусов человеческого существования [25], который проливает свет на характер формирования дисциплинарных пространств и позволяет проследить, как установленный дисциплинарный порядок отзывается на индивидуальные запросы и стихийно возникающие коммуникативные практики. В свете данного метода терапевтические практики предстают в виде трехслойной структуры, начало которой положено индивидуальным запросом, вызванным тем или иным дискомфортом или потребностью. Этот запрос не имел бы никакого социального значения, если бы индивид не был коммуникативно информирован о возможностях терапевтического вмешательства и не мог вступить в непосредственную коммуникацию с терапевтом, что формирует систему личных ожиданий и перспективу возможных действий. На третьем уровне запросы и ожидания получают свою реализацию в той или иной институциональной форме (больница, поликлиника, частная консультация, законодательное регулирование отношений врача и пациента). Следует заметить, что все эти три уровня одновременно присутствуют в реальном действии индивида, когда он получает ту или иную терапевтическую поддержку. Необходимость их различения вызвана тем, что только при этом условии можно увидеть различия логик мотивации, коммуникации и организации и почти неизбежный конфликт между ними.
В нашем исследовании мы накладываем данную схему на представленную Ф. Фукуямой концепцию идентичности, частью которой является понятие терапевтического поворота, и иллюстрируем свой подход примерами из современных социально-политических практик с целью увидеть детали тех изменений, которые совершаются в современных обществах, и оценить роль, которую в них сегодня играет терапия.
Понятия «терапевтический поворот» и «идентичность» в социальной философии Ф. Фукуямы
Рассматривая тренды, характерные для обществ современного типа, американский философ и политолог Ф. Фукуяма в своей работе «Идентичность. Стремление к признанию и политика неприятия» выявляет социально значимую тенденцию стремления современной личности к формированию собственной идентичности. Эта тенденция складывается в контексте той особой важности, которую приобретают ценности свободы и личного достоинства, саморазвития, уважения и признания прав. При этом происходит и самоопределение малых групп по критериям субкультурной общности, гендеру или статусу. Согласно общей позиции Фукуямы, формирование индивидуально ориентированных идентичностей является одной из главных движущих сил современных социальных процессов.
Как указывает автор, толчком к написанию этой книги для него послужили политические события периода президентства Д. Трампа, которые он трактует как ярко выраженный институциональный кризис, и пытается найти его причину1. Он видит ее в том, что современные институты теряют способность интегрировать множественность идентичностей граждан современного государства, превращаются в косную структуру, уже не отвечающую запросам индивидов [20]. Важность человеческого, поведенческого фактора настолько возросла, что способна потрясти политические устои государства. Фукуяма отмечает значительный рост разобщенности между самими индивидами, дробление на все меньшие группы, препятствующее интеграции в общество в целом. Это явление автор называет сосуществованием «закоренелых индивидуалистов», лишенных объединяющих ценностей, слабо социализированных, теряющих способность к созданию крупных общностей и вследствие этого испытывающих недоверие к установленным институтам. «Либеральный режим первенства прав личности в своем расширении и умножении самого числа таких прав двигается к своему логическому пределу, … практически не осталось ни одного сообщества, чей авторитет не был бы поставлен этим расширением под вопрос» [19, с. 27]. Исходя из этого Фукуяма заявляет о настоятельной необходимости рассмотреть под иным углом зрения отношения человека и института. Сделать это он предлагает путем возвращения к понятию «признания», на которое следует опираться при осуществлении социального и политического анализа [7].
Предпосылку для зарождения самой идеи идентичности в европейской культуре (впрочем, значительно отличающейся от современной) Фукуяма определяет, обращаясь к М. Лютеру, теология которого стала отправной точкой для размежевания внутреннего и внешнего в структуре личности. Именно Лютер одним из первых в западной мыли, по мнению Фукуямы, выводит понятие внутреннего «я» как важнейшей части человеческой натуры на пути к спасению.
Далее, говоря об идеях Ж-Ж. Руссо, автор также отмечает трактовку внешних правил, законов и внутреннего «я» как не соответствующих друг другу. Приоритет, отданный французским философом внутреннему, становится еще одним шагом на пути развития понятия идентичности.
Французская революция окончательно высвободила изобилие подавленной дисциплинарным обществом жажды признания. Современные общества унаследовали эту тенденцию. Борьбой за идентичность и индивидуальность охвачены как достаточно развитые из них, так и те, что еще не до конца прошли демократическую модернизацию. Эти обстоятельства, так или иначе, ведут к накалу политических страстей, «революциям достоинства», различным протестным движениям (например, феномен «арабской весны»). А кроме того влияют на частные запросы индивидов, адресуемые институциональной системе, и в целом на восприятие человеком самого себя и своей роли. С ростом человеческой мобильности расширяется и возможность самоопределения [16]. Пестрая мозаика идентичностей способствует дроблению общества и порождает кризисные явления в традиционной институциональности, не успевающей трансформироваться с достаточной скоростью. Требования носителей различных идентичностей (личных и групповых) размывают институциональный (дисциплинарный) порядок. В обществе, где доминирующая роль уже не принадлежит институтам, а индивидуалистический нарциссизм повышает требования к системе, возникает спрос на практики, реализуемые в терапевтическом контексте. По мнению Фукуямы, терапия становится заменой религии и ответственности, а признание индивидуального связывается с терапевтическим. Ранее «правительство “признавало” своих граждан, предоставляя им индивидуальные права, но государство не считалось ответственным за повышение самооценки каждого индивида» [20, с. 133]. Сегодня счастье человека напрямую связывается с его самооценкой. Таким образом, терапевтический поворот совершается в согласии с современным пониманием идентичности, а именно с утверждением, что личные нужды должны быть удовлетворены, а потенциалы – реализованы. Недостаток же современных институтов состоит именно в том, что они пытаются предписывать человеку определенные роли и правила, при этом сдерживая индивидуальные желания, что противоречит требованию идентичности. Терапевтические контексты, по мнению Фукуямы, сегодня активно мигрируют в сферу политического. «Требование терапии» связывается с требованием различных политических реформ, нововведений или, напротив, возвращения к тем или иным «архаичным» моделям социальных практик. Общество может иметь запрос на «хирургическое удаление» того, что в контексте идеологии, тревожности, неудовлетворенности трактуется как «патология». Примером здесь могут служить выраженные антиэмигрантские настроения, «битвы за язык» (стремление обеспечить моноязыковую среду и избежать «инфицирования» общества языками иммигрантов) в неко- торых странах [23]. Фукуяма также указывает на возможность в ближайшем будущем человечества серьезных политических, экономических и социальных эффектов, вызванных терапевтическими запросами общества, а именно распространением сферы услуг на сложные медицинские технологии, такие как биомедицина, генные модификации плода, планирование пола ребенка по желанию родителей, чрезмерное применение лекарственных средств для коррекции поведения ребенка, для обеспечения «удобства» воспитания. Это может привести к значительному дисбалансу полов в результате реализации выбора родителей, подверженных идеологии, моде и т.п. (эффект, разрушающее действие которого продолжает проявляться, например, в Китае). Медикаментозная коррекция поведения способна нанести вред социализации детей и здоровью населения. А искусственное продление жизни средствами биомедицины может нарушить цикл естественной сменяемости поколений [21]. Таким образом, базовые биологические характеристики, отданные на откуп индивидуальным терапевтическим запросам, в скором времени способны поставить неразрешимые проблемы перед политиками и социальными институтами.
В своей работе Фукуяма недостаточно ясно артикулирует собственное отношение к происходящим изменениям, что, видимо, связано с подчеркиваемой им позицией теоретической объективности и нейтральности. Вместе с тем из общего контекста его работ можно выявить его представления об идеальном устройстве государственного порядка. Он, конечно же, не призывает к тому, чтобы институты государства были упразднены (в этой связи он критически относится к позициям некоторых радикалов– анархистов) [18], но считает возможным заключение некоего компромисса между множественными идентичностями и дисциплинарным порядком.
Концепция Фукуямы в контексте истории осмысления медицинского контроля и биополитики Фукуяма – не единственный, кто обратил внимание на терапевтический характер современного общества. Близкие идеи высказывали многие социальные теоретики, используя при этом другие концепты. В целом его подход укладывается в ставшую уже классической проблематику медицинского контроля и биопо- литики, начало которой было положено работами М. Фуко, подробно описавшего клиническое и нозологическое в реализации властных практик. С XVII в., параллельно со становлением клиники как института, происходит и постепенное включение терапии в жизнь общества как в стенах лечебниц, так и за их приделами [17]. В дальнейшем эта проблематика привлекает все большее внимание, осмыслению подвергаются различные аспекты властно установленного порядка. Именно так познание роли психотерапевтических практик выделяется в особую область исследований. Здесь мы считаем важным обратить внимание на специфику подхода Фукуямы в сравнении с концепциями других исследователей, занимавшихся этой темой.
Близкую к фукианской позицию занимают такие авторы, как Дж. Агамбен и А. Негри. Первый подробно рассматривает в качестве биополитической парадигмы современной власти лагерь. Согласно Агамбену, лагерь – не только часть фактического прошлого некоторых обществ, но и в целом качество той социально-политической среды, в которой мы живем сегодня. Это пространство, в котором разворачивается чрезвычайное положение, ставшее правилом, и норма неотличима от исключения. Оказавшийся в лагере вынужден передвигаться в пространстве, исключающем различие между внешним и внутренним, правилом и отсутствием всяких правил, тем, что дозволено, и тем, что запрещено, там, где сами понятия права и юридической защиты не имеют более никакого смысла [4]. Находясь в таком искаженном мире, индивиды усваивают непрерывность чрезвычайного положения и стремятся функционировать согласно его логике, даже если чрезвычайное положение однажды будет отменено (что хорошо просматривается в типах социальной реакции на пандемию COVID-19). А. Негри также обращается к биополитическим практикам контроля над жизнью и здоровьем, подчеркивая их производственную функцию. По его мнению, основной причиной их реализации является не фактическая забота о состоянии граждан, а желание поддерживать состояние относительного благополучия и здоровья граждан для дальнейшего их использования как рабочей силы. Основным требованием здесь является повышение производительности. Чем лучше условия жизни и здоровье индивидов, тем лучше они способны трудиться. Впрочем, сами биополитические практики несут в себе и возможность произ- водства контрвласти, бурной реакции жизни на власть. Желание жизни всегда порождает сопротивление власти, и в этом сопротивлении конструируется сама субъективность [24]. В целом, эти две позиции относительно взаимодействия индивидов и институциональной системы являются горазда более жесткими, нежели позиция Фукуямы.
Необходимо также указать на концепт терапевтического общества, который использует для понимания специфики современного общества Ж. Бодрийяр. В работе «Общество потребления» он указывает на терапевтический характер современного социума и, в частности, политической сферы. Согласно Бодрийяру, мы все живем в условиях постоянного присутствия идеологии «непрерывной заботы» о нас, где всех и вся необходимо лечить и утешать. «Требуется поистине верить в то, что большой социальный организм очень болен и граждане-потребители очень хрупки, находятся все время на краю упадка сил и утраты равновесия, чтобы повсюду – у профессионалов, в газетах и у моралистов-аналитиков – существовал “терапевтический” дискурс» [6, с. 163]. Этот утешающий подход реализуется даже в рекламных объявлениях, так как всякий клиент жаждет безопасности и успокоения. «“Общество болеет” – это лейтмотив всех добрых душ, находящихся у власти» [6, с. 163]. Оборотная же сторона такой заботы, с точки зрения Бо-дрийяра, – это соблазн, настойчивое убеждение и в конце концов создание надежного алиби для тайной манипуляции желаниями. Так политический контроль удваивается посредством контроля над самими мотивациями. Бодрий-яр, подобно Агамбену и Негри, рисует более жесткую модель взаимодействия индивидов и институциональной системы, чем Фукуяма. Терапевтическое общество, согласно Бодрийяру, захватывает индивида, обольщает, затягивает в сети непрерывного производства желаний и немедленного потребления. Однако Фукуяма демонстрирует иной, более мягкий подход к осмыслению роли медицинского контроля в современной политике государства. Связывая социальную потребность в расширении исцеляющих практик с развитием мультиидентичностей, Фукуяма подчеркивает ведущую роль индивидуальных желаний и запросов, требующих от властей их удовлетворения наравне с другими, исполнения чаяний, признания и в конце концов утешения. Фукуяма рисует иную картину современного общества, в котором власть скорее исполняет роль психотерапевта, озабоченного комфортом и самооценкой клиента, нежели сурового анатома классической эпохи, препарирующего, разделяющего и включавшего в нозологические классификации, или коварного соблазнителя, реализующего только свои интересы. «Терапевта» такого нового типа волнует не столько структура внутреннего «я» пациентов или вопросы справедливости общественного устройства, сколько улучшение психологического состояния подопечных. «Терапевтическая модель стала “повитухой” современной политики идентичности», – говорит Фукуяма [20, с. 136]. Отсюда, согласно автору, вытекает ряд проблем. Во-первых, достаточно затруднительным становится удовлетворить желания все более фрагментированного общества, где каждая малая группа, а то и индивидуальность предъявляет свои запросы, вследствие чего возникает конфликт интересов. Во-вторых, в стремлении к всеобщему равенству парадоксальным образом возникают и новые иерархии, при этом чьи-то права все же нарушаются. Таким образом, сравнивая позиции Бодрийяра и Фукуямы, можно сказать, что первый в большей степени акцентирует всесилие власти в области медицинского контроля, второй же, скорее, подчеркивает ее неспособность ответить на запрос массы индивидов.
Дж. Батлер, не используя термины «терапия» и «терапевтический», тем не менее отмечает характерную для сегодняшнего социального дискурса особенность выделять повсюду группы «уязвимых» и «страдающих», подлежащих непременной защите и заботе. Однако в общем политическом горизонте это выделение многочисленных опекаемых групп нисколько не избавляет от исключения других. Здесь Дж. Батлер приводит пример защиты прав неро-дившихся эмбрионов, но ущемления женщин в праве распоряжаться собственным телом, либо возникающую в этом случае правовую неоднозначность технологий ЭКО и генной терапии. В целом позицию Батлер можно охарактеризовать как критику последствий терапевтического поворота, в число которых входит исключение отдельных групп людей из сферы социальной защиты и порождение новых иерархических структур неравенства. Она рассматривает более «личные» темы, фокусируясь на проблемах гендера, телесности и стигматизации, в то время как Фукуяма расширяет рамки своего иссле- дования до вопросов государственности и глобальной политики [5].
Й. Радкау более близок к Фукуяме по масштабу рассматриваемых событий в своей оригинальной работе о взаимосвязи терапевтического (неврологического) дискурса и государственной политики, однако его исследование касается политики конкретной страны, а именно Германии перед Первой мировой войной. Переплетая истории частных жизней людей, пораженных «нервным недугом», с культурным и политическим, Й. Радкау прослеживает, как возникновение дискурса нервозности запускает механизмы «предчувствия нового мира», «нового человека», повинующегося диктату «нервов», влечения общества к своеобразному мистическому восприятию нервозности, а в итоге – к формированию глобальных социальных и политических стратегий, приведших к фатальным последствиям [15]. Кейс, который анализирует Й. Радкау, имеет, конечно же, более универсальное значение, чем его конкретно-историческая привязка. Невротизация общества является обязательным условием его ориентации на решительное действие, «кайзер» же в этом движении должен идти впереди, проявляя нервозную решительность и заражая ею народ. Фукуяма тоже указывает на терапевтические приемы, используемые политическими лидерами, которые выходят на сцену с рецептом исцеления текущих проблем, что имеет особое значение в случае наличия исторической травмы.
Стоит также отметить, что частные аспекты как медицинского контроля, так и биополитики, как правило, затрагиваются при анализе текущих социальных проблем и политических событий. Так, Б. Марков, разрабатывая проблему восприятия чужого и инородного в современном обществе (в связи с обстоятельствами пандемии коронавируса), определяет это общество как огромный профилакторий, где различные идентичности и интересы трактуются в иммунологических терминах. Там, где каждый имеет право на оздоровление и где оно предложено каждому, кому-то должна быть отведена роль инфекционного агента, защиты от которого также вправе потребовать обитатели профилактория. В обществе всеобщей защиты прав происходят постоянные колебания между ксенофобией и ксенофилией, хрупко балансируют понятия дружественности и враждебности, постоянно присутствует заинтересованность во взаимообмене, интеграции в альянсы и прозрачности границ, но значительную трудность составляет определение степени «проницаемости» этих «мембран» и отделение чужих от своих [9].
В этом же ряду отметим и работы А. Поран-кевич-Жуковской. Ссылаясь на нейробиолога А. Дамасио, она, подобно Фукуяме, вводит понятие терапевтического поворота, а также описывает «культуру терапии», рассуждая – больше в логике Дж. Батлер – о циркуляции в современных социально-политических структурах образа жертвы – психологически нестабильного индивида, постоянно ощущающего угрозу для своей индивидуальности и нуждающегося в особом обращении. Польская исследовательница определяет терапевтический поворот в обществе как фиксацию социума на боли и страдании личности [2].
Французский философ К. Малабу дает оригинальный анализ социального, обращаясь к понятию пластичности (нейропластичности) и совмещая философские термины и термины, взятые из современной нейронауки. Пластичность – это способность мозга изменяться и подстраиваться при контакте с окружающими стимулами, в том числе сопротивляться некоторым видам воздействия. Если раньше мозг рассматривался как своеобразная заданная схема, управляющая индивидом, что вполне совпадало с реалиями жесткой и иерархической дисциплинарной системы, то сегодня, в условиях лабильных социальных сетей, способность к перестройке, гибкости и сопротивлению играет ведущую роль, то есть тип реакции современного человека на вызовы окружающей среды приобретает принципиально иное качество [1]. Подход К. Малабу, таким образом, отчасти перекликается с индивидуалистической теорией Фукуямы, апеллируя, однако, к иным контекстам в сфере новейших наук о человеке.
Таким образом, идея терапевтического поворота Фукуямы укладывается в русло общей тенденции, связанной со стремлением исследователей фиксировать значения терапии для функционирования институтов современного общества. Оригинальность этой идеи состоит в том, что она привязывает понятие терапевтического к конструктам современной глобальной политики в разных странах. И ведущая роль в этом процессе, по мнению Фукуямы, сегодня принадлежит мультиидентичностям, предъявляющим свои требования к устаревшим институциональным формациям.
Терапевтическая модель общества и социально-политические реалии
Теоретический каркас концепции Фукуямы включает в себя три базовых положения. Во-первых, тимос как жажда признания является неотъемлемым качеством современного человека. Во-вторых, понятие достоинства, расширяясь и универсализируясь, может трансформировать личные поиски и импульсы в политические проекты. Наконец, непосредственно из современного понимания идентичности вырастает терапевтический принцип политического. Особая роль в этом процессе принадлежит именно практикам, подобным психотерапии, как наиболее точно отражающим сущность современного социума. Уровень мотивации как ведущий в данный исторический период оказывает непосредственное влияние на уровень институтов. В этой связи уместно привести несколько примеров функционирования данной модели в реалиях современного общества.
Сегодня в контексте современных феминистских движений хорошо заметно, как терапевтические практики встраиваются в политические протесты и процессы. Феминистский протест реализуется не столько в манифестации конкретных требований прав или возможностей, сколько в стремлении обратить внимание на личные обстоятельства и жизненные истории. Женщины формируют группы самопомощи и самопознания, в которых происходит обмен личными переживаниями, а индивидуальные запросы на признание получают завершенную форму в своеобразном языке, который закрепляется в политике. Для неофеминисток предпочтительными являются именно «психотерапевтические» методы ведения борьбы, где пережитое предшествует концептуальному [8], а проговариваемое играет роль связующего механизма между личной потребностью и политическим институтом. Популярность такого подхода к решению политических проблем и запросов на изменение институционального оформления того или иного проблемного поля можно заметить по масштабам распространения движения #MeToo. Вокруг темы насилия над женщинами стихийно возникают эмоциональные, личные контексты, способные повлиять на политику государств не хуже институализированных политтехнологий [14].
Требования женщин обратить внимание на их проблемы в ряде случаев влекут изменение и самих институционально принятых терапев- тических практик. Одним из примеров этого стало требование женщин США изменить подход к лечению рака груди, повлекшее за собой отказ от радикальной мастэктомии в пользу более прогрессивных и менее травматичных для женщины (как физически, так и эмоционально) методов лечения. «Публичные признания женщин, перенесших операцию по удалению груди, и многочисленные требования законодательно признать право женщины участвовать в принятии медицинских решений по поводу лечения рака груди стали сопровождаться появлением первых женских групп и организаций, объявивших своей целью пропаганду более гуманных методов лечения и более внимательного отношения общества к женскому здоровью» [10, с. 224].
Другим примером может послужить ситуация, сложившаяся вокруг пандемии коронавируса. Жесткие санитарно-эпидемические меры вызвали лавину противоположных реакций со стороны общества. С одной стороны, это нетерпеливые требования индивидов к властям как можно быстрее предоставить им эффективную вакцину, успокоить, гарантировав «абсолютную» безопасность путем применения системы QR-кодов, и дать возможность определить себя как вакцинированных. Такие запросы со стороны социума были продиктованы терапевтическим нарративом, не позволяющим принять большое количество жертв пандемии и отказывающим государству в праве устраниться от снижения их количества любыми способами. С другой стороны, наличие в обществе множества разрозненных групп, альтернативных мнений, интернет-сообществ и идентичностей (например, религиозных) значительно усложнило выполнение задач по ограничению распространения инфекции. Наличие такой «недоверяющей популяции» стало большим стрессом для институциональной организации [13]. С. Жи-жек, гипотетически описывая крайнее проявление этой ситуации, говорит, что, в сущности, не так уж сложно представить крупные объединения либертарианцев, которые, подозревая государственный заговор, готовы были бы прорываться из карантина с оружием в руках [3]. Выполнение санитарных мер в полном объеме, таким образом, удалось реализовать только в государствах, где все еще сильна авторитарность институтов.
Эти примеры достаточно ярко иллюстрируют отмеченную Фукуямой ведущую роль лич- ных мотивов и идентичностей в современной политике и ее терапевтический характер. Кроме того, они демонстрируют наличие конфликта между современным человеком, полным личных планов, требований и надежд, и институциональной системой, не соответствующей быстро меняющимся жизненным практикам. Для разрешения конфликта между индивидами и институтами необходимо некое компромиссное решение. Мы считаем важным подчеркнуть, что отсутствие ясного описания условий такого компромисса обусловлено тем, что Фукуяма упускает в своей концепции промежуточное звено между индивидами и институтами, которым являются коммуникативные практики жизненного мира (в понимании Ю. Хабермаса) [22]. Для дальнейшего объяснения сложных социально-политических процессов в контексте терапевтического поворота необходимо применение герменевтических методов, которые помогут раскрыть различные нарративы, циркулирующие в общественном пространстве [12]. Настоятельная необходимость такого рассмотрения видна на примере недавних событий, связанных с пандемией, когда вокруг сугубо медицинских практик сложился ряд мифов и коммуникативных паттернов, формирующих взгляды индивидов на институциональное и в итоге приведших к потрясениям в институциональном поле [11]. Преодолеть конфликт жизненного мира и системы невозможно, однако можно значительно уменьшить их антагонизм. Впрочем, мы считаем этот вопрос темой, требующей специального исследования.
Заключение
Концепция терапевтического поворота, которая используется Ф. Фукуямой для интерпретации процессов, происходящих в современном обществе, имеет значительный объяснительный потенциал. На фоне схожих подходов она обладает тем преимуществом, что наиболее отчетливо фиксирует специфику того конфликта, который складывается между мотивацией и запросами современного человека с одной стороны и социальными институтами с другой. Если аналогичные концепции рассматривают практику медицинского контроля и биополитику государства как наступление на естественные права человека, обусловленное чрезмерным усилением государства, то Фукуяма, скорее, критикует государственные институты за их слабость. В принципе, он считает, что государственная власть готова была бы ответить на запрос индивидов, но не обладает для этого достаточной гибкостью. Однако какого-либо рецепта решения этой проблемы, пожалуй, не содержит ни одна из концепций. Фукуяма ищет возможность компромисса между запросами людей и возможностями государства, однако не указывает, как конкретно может быть оформлен этот компромисс. Мы соглашаемся с необходимостью такого компромисса, но считаем, что он может быть сформулирован исключительно в дискурсе опосредующих государственные институты и запросы личностей коммуникативных практик жизненного мира.
Список литературы Идея «терапевтического поворота» Ф. Фукуямы в контексте осмысления трансформации современного общества
- Malabou, C., 2012. The new wounded: from neurosis to brain damage. New York: Fordham University Press.
- Porankiewicz-Żukowska, A., 2019. Kultura terapii jako wynik braku homeostazy kulturowej, problem tożsamości. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Cultura, Vol. 11, no. 4, pp. 4–20.
- Žižek, S., 2020. Pandemic! COVID-19 Shakes the World. New York; London: OR Books.
- Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Европа, 2011.
- Батлер Дж. Сила ненасилия. Сцепка этики и политики. СПб.: Издательский дом ВШЭ, 2022.
- Бодрийяр Ж. Общество потребления. М.: АСТ, 2020.
- Дмитриев Т.А. «Желание быть видимым»: Френсис Фукуяма в поисках объяснения новых тенденций мировой политики // Перспективы. 2020. № 1. С. 133–144.
- Липовецки Ж. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме. М.: Гнозис, 2001.
- Марков Б. Политическая иммунология. М.: Проспект, 2021.
- Михель Д.В. Эпидемии и глобальная история. М.: Весь мир, 2021.
- Прилуцкий М.А. «Вакцинирование» vs «чипирование»: триггеры эсхатологической мифологии в условиях противоэпидемических мероприятий // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2021. № 3. С. 108–118.
- Прилуцкий М.А. Коронавирусная инфекция и религиозные дискурсы медицинской конспирологии // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2020. Т. 33. С. 108–114.
- Прощай, COVID? М.: Издательство Институт Гайдара, 2020.
- Пунина К.А., Фадеев Г.С. #MeToo как технология воздействия на политику // Вестник Удмуртского университета. Социология. Политика. Международные отношения. 2021. Т. 5. № 1. С. 85–95.
- Радкау Й. Эпоха нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера. СПб.: Издательский дом ВШЭ, 2017.
- Урри Дж. Мобильности. М.: Праксис, 2012.
- Фуко М. Рождение клиники. М.: Академический проект, 2010.
- Фукуяма Ф. Государственный порядок. М.: АСТ, 2015.
- Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процв етанию. М.: АСТ, 2004.
- Фукуяма Ф. Идентичность: стремление к признанию и политика неприятия. М.: Альпина Паблишер, 2019.
- Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологической революции. М.: АСТ, 2004.
- Хабермас Ю. Теория коммуникативной деятельности. М.: Весь мир, 2022.
- Хантингтон С. Кто мы? М.: АСТ, 2018.
- Хардт М., Негри A. Империя. М.: Праксис, 2004.
- Ячин С.Е., Деменчук П.Ю., Минеев М.В. Институализация коммуникативных и жизненных практик в обществах современного типа (Введение в исследовательскую программу) // Креативная экономика. 2018. Т. 12. № 9. С. 1399–1416.