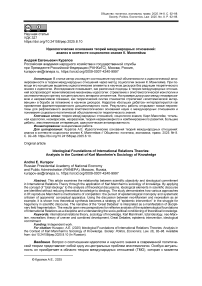Идеологические основания теорий международных отношений: анализ в контексте социологии знания К. Маннгейма
Автор: Курапов А.Е.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 8, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье автор исследует соотношение научной объективности и идеологической ангажированности в теории международных отношений через метод социологии знания К. Маннгейма. При помощи его концепции выделены идеологические элементы в научном дискурсе без редукции теоретического знания к идеологии. Исследование показывает, как различные подходы в теории международных отношений воспроизводят маннгеймовские механизмы идеологии: стремление к эпистемологической монополии и систематическую критику концептуального аппарата оппонентов. На примере дискуссии между неомарксизмом и неореализмом показано, как теоретический синтез становится стратегией «эпистемической интервенции» в борьбе за гегемонию в научном дискурсе. Нарратив «Больших дебатов» интерпретируется как проявление фрагментированности дисциплинарного поля. Результаты работы открывают новые перспективы для рефлексивного анализа эпистемологических оснований науки о международных отношениях и понимания социальнополитической обусловленности теоретического знания.
Теория международных отношений, социология знания, Карл Маннгейм, тотальная идеология, неомарксизм, неореализм, теория неравномерного и комбинированного развития, Большие дебаты, эпистемическая интервенция, идеологическая ангажированность
Короткий адрес: https://sciup.org/149148905
IDR: 149148905 | УДК: 327 | DOI: 10.24158/pep.2025.8.10
Текст научной статьи Идеологические основания теорий международных отношений: анализ в контексте социологии знания К. Маннгейма
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Москва, Россия, ,
институционального оформления в ХХ в. характеризуется выраженным методологическим плюрализмом конкурирующих теоретических подходов, каждый из которых претендует на доминирование в объяснении международных процессов (International Relations Scholarship Around the World …, 2009: 12–14). Парадокс заключается в том, что теоретические школы, утверждая научную объективность, одновременно демонстрируют характерные признаки идеологических систем – стремление к эпистемологической монополии, систематическую критику альтернативных подходов и социально-политическую ангажированность исследовательских подходов.
Классическая теория социологии знания К. Маннгейма предоставляет аналитический инструмент для анализа взаимосвязи научного знания и идеологии. Ученый показывает, что характерной чертой последней является притязание на статус объективного знания при одновременной социальной обусловленности ее содержания1. Такой подход позволяет по-новому оценить характер теории международных отношений (ТМО) – теоретические дискуссии внутри дисциплины можно рассматривать не только как научные споры, но и как форму идеологической борьбы за право определения международной реальности.
Актуальность проблемы подтверждается нарративом «Больших дебатов» – историей конкуренции подходов за статус универсальности в объяснении международных процессов. О. Вэвер отмечает, что формирование научного поля ТМО неразрывно связано с социально-политическим контекстом, что ставит под сомнение претензии некоторых теоретических подходов на объективность (Waever, 1998).
Исследователи используют различные стратегии для закрепления позиций своих теорий в научном поле, в частности, теоретический синтез – заимствование концептуального аппарата других школ для усиления собственных позиций. Это можно рассматривать как «эпистемическую интервенцию» в борьбе за теоретическую гегемонию. Показательным примером является взаимодействие неомарксизма и неореализма, в рамках которого представители первого направления адаптируют аналитический аппарат второго для повышения статуса в академическом дискурсе (Rosenberg et al., 2021).
Цель исследования – анализ диалектики объективности и идеологической ангажированности теоретических подходов в ТМО через социологию знания К. Маннгейма. Для ее достижения необходимо, во-первых, выявить ключевые положения социологии знания К. Маннгейма; во-вторых, определить соответствие установок его теории характеру науки о международных отношениях, в частности, ее фрагментированности и «научному трайбализму» в контексте нарратива «Больших дебатов».
Применение социологии знания К. Маннгейма к анализу ТМО требует методологического уточнения. Исследование не приравнивает научные теории к идеологиям, а выявляет идеологические элементы в научном дискурсе – структурные сходства в механизмах конкуренции за эпистемологическое доминирование. Маннгеймовская концепция используется как аналитический инструмент для обнаружения скрытых социально-политических механизмов, влияющих на статус теоретических подходов в области международных отношений (МО).
Методологической основой исследования служит социология знания К. Маннгейма, адаптированная к специфике научного дискурса в области международных отношений. Исследование проводилось в три этапа – выявление паттернов взаимодействия между теоретическими школами в ТМО; анализ механизмов легитимации и критики в теоретических спорах; сопоставление способов конкуренции в ТМО с маннгеймовской моделью идеологического противостояния.
Следует операционализировать ключевые понятия для анализа ТМО в рамках исследования: «тотальная идеология» в научном контексте проявляется как претензия теории на полное объяснение международной реальности; «подрыв способа познания врага» выражается в систематической критике не только выводов, но и базовых предпосылок альтернативных теорий; «динамический реляционизм» позволяет анализировать взаимодействие теоретических подходов без принятия стороны какого-либо из них.
«Идеология и утопия» К. Маннгейма. В работе «Идеология и утопия» (1929) К. Маннгейм исследует роль идеологии в функционировании общества2. Она рассматривается им как система убеждений, идей и ценностей, влияющих на поведение и мышление людей, как совокупность политических, экономических, культурных и социальных представлений, на основе которых выстраивается организация общественного порядка (Hammersley, 2022). Генезис понятия «идеология» К. Маннгейм связывает с эпохой Просвещения. Секуляризация общественного сознания и ослабление влияния церкви привели к фрагментации единой картины мира и возникновению множества интерпретаций социальной реальности3. Унифицированная система мировосприятия сменилась плюрализмом идеологий, каждая из которых стремилась полностью объяснить действительность и легитимировать социально-политический порядок.
К. Маннгейм разделяет идеологию на два типа – частичную и тотальную. Первая репрезентирует систему индивидуальных представлений о месте человека в социальной иерархии; она не претендует на роль «объективной истины», концентрируясь на интерпретации отдельных аспектов общественной реальности1. В основе частичной идеологии лежит представление о том, что «тот или иной интерес служит причиной лжи и сокрытия истины» (Speier, 1985). Такие идеологические конструкты формируют взгляды на конкретные проблемы, допуская возможность существования альтернативных идей. Частичные идеологии, признающие ограниченность своего знания, могут способствовать эволюционной трансформации общества (Speier, 1985).
Тотальная идеология, напротив, представляется К. Маннгейму значительно более «опасной» в социально-эпистемологическом плане. Она характеризуется притязанием на всеобъемлющее объяснение всех сфер человеческого бытия. Принципиальное отличие ее от других – фундаментальное опровержение самого способа мышления оппонента, а не просто отрицание конкретных положений альтернативных систем рассуждений2. Тотальная идеология ставит под сомнение все мировоззрение «врага», включая его категориальный аппарат, предлагая единственную «правильную» версию мироустройства3.
Концептуально значимым для тотальной идеологии является понятие «объективной истины», которое в интерпретации К. Маннгейма представляет собой специфическое толкование действительности, создаваемое конкретной идеологической системой (Ashcraft, 1981). Каждая тотальная идеология стремится занять позицию «объективной истины», используя собственный категориально-аналитический аппарат для интерпретации реальности. Таким образом, «объективная истина» является описанием действительности, доминирующей в определенном социально-историческом контексте идеологией.
При столкновении идеологий, когда появляется альтернативная парадигма, противоречащая установившейся модели реальности, происходит процесс «преобразования основ». Конкурирующие идеологии стремятся к взаимному подавлению, пытаясь «подорвать способ познания врага»4. Эскалация антагонизма достигает стадии, когда каждая сторона стремится «уничтожить» не только конкретные ценностные ориентиры, но и фундаментальные идейные позиции оппонента5. Методологическим инструментом «подрыва способа познания» является систематическая критика концептуального аппарата оппонента. Для понимания этих механизмов идеологического противостояния К. Маннгейм разработал концепцию «динамического реляционизма». Основа ее строится на отрицании существования универсальной «объективной истины» и утверждении взаимозависимости между социальной реальностью и идейными структурами, которые всегда выражают определенные общественные интересы6. Социолог знания анализирует не конкретные идеи, а то, как «мыслят» идеологии и в каком соотношении сталкиваются. Метод «динамического реляционизма» позволяет понять стремление идеологий к определению «объективной истины» через подрыв концептуального аппарата оппонента.
Характер науки о международных отношениях . Теоретическое наследие К. Маннгейма создает основу для применения его подхода за пределами традиционного анализа идеологий в рамках отдельных обществ. В этом контексте теоретические подходы в конкретных научных дисциплинах могут рассматриваться как проявления идеологической обусловленности научного знания. Такой областью является наука о международных отношениях (МО).
Формирование науки о МО как самостоятельной дисциплины произошло после Первой мировой войны, когда потребовалось теоретическое осмысление причин столь масштабного конфликта и предотвращение повторения его в будущем (Carr, 1981). Развитие дисциплины МО нельзя назвать непрерывным процессом накопления знаний – теория международных отношений эволюционировала через серию фундаментальных споров между теоретическими школами, получивших впоследствии название «Больших дебатов», обозначивших важнейшие этапы становления дисциплины и сформировав ее основные концептуальные направления (Dune et al., 2020).
Первой волной «Больших дебатов» принято считать противостояние классического либерализма и реализма в 1930–1950-х гг. (Dune et al., 2020). Либерализм акцентировал внимание на потенциале неконфликтных форм взаимодействия – дипломатии, торговле, международных институтах (McGlinchey et al., 2017: 4). Реализм своими положениями утверждал, что конфликтное взаимодействие между государствами естественно, и строился на изучении конфликтного поведения государств (Carr, 1981: 8–9). Интеллектуальное противостояние обеспечивалось критикой теоретических инструментов подходов «оппонента». Сказанное позволяет охарактеризовать «Большие дебаты» как систематическое стремление теоретических подходов к конкуренции за легитимацию собственного концептуального аппарата в качестве универсального инструмента для анализа международных процессов.
Вторые «Большие дебаты» относятся к 1960-м гг. и связаны с противостоянием между традиционалистами и бихевиористами. Традиционалисты строят анализ на признании комплексного характера МО и «уникальности» каждого исторического события; бихевиористы, напротив, предлагают не рассматривать события с точки зрения их «уникальности», а использовать математические методы и изучение конкретных паттернов поведения элементов международной системы (Lake, 2013).
Третьи «Большие дебаты» относятся к 1970-м гг. и характеризуются формированием современных подходов в области МО, сохраняющих актуальность на сегодняшний день (Dune et al., 2020). В этот период получили свое интеллектуальное оформление основные теоретические направления: неореализм, институционализм, английская школа, неомарксизм и критическая теория. Каждое из них стремилось продемонстрировать методологическую ограниченность конкурентов через последовательную критику, заявляя свою концептуальную рамку как наиболее эффективную для анализа МО.
Нарратив «Больших дебатов» выявляет важное ядро науки о МО. Во-первых, дисциплина состоит из множества конкурирующих теоретических подходов. Во-вторых, она максимально сфокусирована на дискуссиях между ними. Фрагментация теоретического поля и стремление утвердить собственный концептуальный аппарат порождают внутрипарадигмальные дискуссии о месте той или иной теории в рамках науки о МО. Показательным примером является дискуссия внутри неомарксистского направления, где исследователи теории неравномерного и комбинированного развития (ТНКР) обсуждают возможность заимствования концептуального аппарата структурного реализма1.
Заимствование как способ закрепиться в науке . Заимствование концептуального аппарата неореализма служит инструментом для закрепления ТНКР в статусе универсальной объяснительной теории. Формирование идеи о заимствовании происходило постепенно: дискуссия о статусе ТНКР началась в конце XX в. и эволюционировала в сторону синтеза с реалистическими подходами. В книге «The Empire of Civil Society» (1994) Д. Розенберг критиковал неореализм за ряд концептуальных допущений: трактовку перманентной анархии международной системы, обобщение государств до унитарных субъектов, объяснение поведения через логику «баланса сил» и исключение внутренней политики из анализа (Rosenberg, 1994). Первоначально Д. Розенберг предлагал преодолеть эти концептуальные допущения путем отказа от теоретических констант реализма в пользу исторического анализа (Rosenberg, 1994: 172). Однако в последующей работе «Un-even and Combined Development. The Social-Relational Substratum of 'The International'? An Exchange of Letters»2, в частности, в переписке с А. Каллиникосом, позиция ученого изменяется. Обсуждая «реалистический момент» в неомарксизме, он признает: хотя реализм является «спонтанной идеологией государственных менеджеров», его теоретический аппарат в марксистской интерпретации может создать более эффективную аналитическую модель МО3. Теоретический синтез неореализма и марксизма на основе ТНКР, по мнению исследователя, способен укрепить саму концепцию и усилить позиции неомарксистского подхода в науке о МО4.
Дальнейшее развитие этой дискуссии можно обнаружить в произведении «New Directions in Uneven and Combined Development» (2022), где Д. Розенберг позиционирует теорию неравномерного и комбинированного развития как один из пяти основных неомарксистских вкладов в теорию международных отношений, наравне с концепцией империализма, мир-системным анализом, критикой инструментального разума и неограмшианским подходом (Rethinking Globalization. Multiplicity: A New Common Ground for International Relations? New Directions in Uneven and Combined Development …, 2022). Отличительной особенностью ТНКР, по мнению Д. Розенберга, является фокус на «международном» как главном объекте анализа социального мира. Это отличает ТНКР от других марксистских подходов и объясняет ее возможность закрепиться в науке о МО и даже стать доминирующей аналитической парадигмой (Rethinking Globalization. Multiplicity: A New Common Ground for International Relations? New Directions in Uneven and Combined Development …, 2022: 294–295).
Размышляя в русле идей Д. Розенберга, Д. Благден концентрируется на вопросе теоретического синтеза и заимствования концептуального аппарата в контексте конкретных положений неореализма. Анализируя международные конфликты, исследователь приходит к выводу, что ТНКР является необходимым дополнением неореализма (Blagden, 2021). Д. Благден отмечает: структурный реализм фокусируется на внешних факторах конфликтов, в то время как ТНКР способна дополнить его анализом внутренних трансформаций, таких как гражданские войны и революции (Blagden, 2021). Заимствование ключевых моделей реализма может закрепить позицию неомарксизма как доминирующей парадигмы в науке о МО.
Соотношение положений социологии знания К. Маннгейма и ТМО . Нарратив «Больших дебатов» демонстрирует ключевую особенность науки о МО – высокую степень фрагментации теоретического поля. Она выражается в множестве теоретических подходов, сформировавшихся в ХХ в. Каждый подход оперирует собственным концептуальным аппаратом и методологией анализа. Плюрализм способов анализа МО, в свою очередь, порождает интенсивные теоретические споры между подходами. Основная цель их – показать несостоятельность объяснительной логики оппонента и возвести собственную в ранг ключевого инструмента анализа международных процессов.
Сопоставление структурных особенностей науки о МО с теоретическими положениями К. Маннгейма позволяет проследить сходства между взаимодействием теоретических подходов в МО и концепцией тотальной идеологии. Тем не менее следует различать идеологию как социально-политический феномен и идеологические элементы в научном дискурсе. Применение социологии знания к ТМО основывается на выявлении идеологических элементов без редукции теоретического знания к идеологии. Под идеологическими элементами при этом понимаются претензии теорий на универсальность объяснения; систематическая критика альтернативных подходов через делегитимацию их концептуального аппарата; избирательное заимствование теоретических инструментов оппонентов; социально-политическая ангажированность исследовательских программ. Такой подход позволяет анализировать конкуренцию теоретических школ как борьбу за эпистемологическую гегемонию, сохраняя при этом познавательную ценность научных теорий.
Согласно логике К. Маннгейма, появление в социальном пространстве нового подхода с «новыми идеями» неизбежно активизирует «принцип конкуренции», стимулирующий другие подходы к интеллектуальному противостоянию. Аналогичную динамику можно наблюдать в области ТМО, где различные теоретические подходы находятся в состоянии постоянной конфронтации, выражающейся в теоретических спорах. Тезис К. Маннгейма об идеологичности любого типа мышления позволяет рассматривать теоретические подходы в ТМО с точки зрения их потенциальной идеологической обусловленности1. Исследователи, пользующиеся этими подходами, нередко отстаивают собственные интерпретации международной реальности.
В случае кейса теоретического заимствования неомарксизмом концептуального аппарата неореализма важен контекст статуса теорий в научном поле МО.
Неомарксизм оформился в теории международных отношений в 1970-х гг., развивая базовые идеи классического марксизма и фокусируясь на экономических и социальных аспектах мировой политики. Он представлял собой не монолитное направление, а совокупность различных интерпретаций идей К. Маркса, причем он не являлся доминирующей парадигмой в МО (Anievas, 2010).
Структурный реализм, также сформировавшийся в конце 1970-х гг., развивал идею о том, что международная система характеризуется анархией – отсутствием верховного арбитра на международной арене. К концу XX в. реализм занял доминирующую позицию в науке о международных отношениях благодаря фокусу на межгосударственных конфликтах, актуальных в период холодной войны. Марксизм в этот период был оттеснен на периферию дисциплины, концентрируясь на вопросах экономической мощи и структурных изменений в обществе (Hacen, 2011).
Доминирующая позиция реализма в дисциплинарном поле МО спровоцировала волну критики со стороны альтернативных теоретических подходов, включая марксизм. Среди наиболее значимых оппонентов неореализма с марксистских позиций были Р. Кокс с его критикой государ-ствоцентризма (Cox, Schechter, 2002), Р. Эшли, осуществивший анализ слабых сторон утилитаризма и позитивизма (Ashley, 1984) и И. Валлерстайн, предложивший мир-системный анализ как альтернативу (Wallerstein, 1974).
Таким образом, в пространстве ТМО сложилась ситуация, когда неореализм утвердился в качестве превалирующей теории, что в терминологии К. Маннгейма может быть интерпретировано как позиция «доминирующей идеологии» в научном дискурсе. Неомарксизм, в свою очередь, представлял собой теоретическое направление, стремящееся оспорить гегемонию неореализма через систематическую критику его базовых постулатов.
Демонстрируют ли теоретические подходы в ТМО структурные сходства с механизмами функционирования «тотальной идеологии» в понимании К. Маннгейма? Какие элементы научного дискурса можно интерпретировать через призму социологии знания? Анализ дискуссии в рамках ТНКР позволяет ответить на эти вопросы. Согласно позиции Д. Розенберга, она способна укрепить позиции неомарксизма в теории международных отношений благодаря четырем характеристикам: четкой онтологической предпосылке, эмпирическому методу, фокусу на «международном» как ключевом объекте анализа и формированию собственного «голоса» в междисциплинарных дискуссиях (Rosenberg et al., 2021).
Параллельно стремлению закрепить подход в науке производится критика доминирующего неореализма. Неомарксисты утверждают, что это «спонтанная идеология менеджеров от внешней политики», он аисторичен и нечувствителен к экономическим процессам (Rosenberg et al., 2021). Критика проходит через все этапы дискуссии исследователей ТНКР. Однако, поскольку в чистом виде она не охватывает все области для доминирования в науке, необходимо теоретическое заимствование концептуального аппарата неореализма. В сочетании с идеями реализма неомарксистский подход может стать доминирующей объяснительной моделью, учитывающей внутренние и внешние факторы при анализе МО.
Заключение . Анализ кейса ТНКР и неореализма демонстрирует механизм, структурно схожий с маннгеймовской концепцией «подрыва способа познания врага»: критика базовых постулатов доминирующего подхода сочетается с избирательным заимствованием его аналитического инструментария. Это позволяет предположить, что конкуренция теоретических школ в ТМО имеет не только научную, но и социально-эпистемологическую природу.
Применение социологии знания К. Маннгейма к анализу ТМО выявляет скрытые эпистемологические механизмы, формирующие дисциплинарное поле. Научные дебаты в ТМО включают не только познавательные цели, но и борьбу за право определения исследовательской повестки. Однако это не означает приравнивания научного знания к идеологии, а указывает на необходимость рефлексивного подхода к пониманию социальной обусловленности теоретического знания в области международных отношений.
Рассмотренные подходы в ТМО демонстрируют структурные сходства с маннгеймовской концепцией «тотальной идеологии»: стремление к монополии на объяснение международной реальности, систематическую критику альтернативных подходов и избирательное заимствование их концептуального аппарата. При этом нарратив «Больших дебатов» отражает фрагментиро-ванность дисциплинарного поля, где каждый подход претендует на статус универсальной объяснительной модели. Конкуренция между неомарксизмом и неореализмом иллюстрирует механизмы «эпистемической интервенции», когда теоретический синтез становится стратегией борьбы за гегемонию в научном дискурсе.