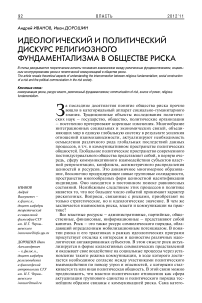Идеологический и политический дискурс религиозного фундаментализма в обществе риска
Автор: Иванов Андрей Валерьевич, Дорошин Иван Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются теоретические аспекты понимания взаимосвязи между религиозным фундаментализмом, социальным конструированием риска и политической коммуникацией в обществе риска.
Коммуникация риска, ресурс власти, религиозный фундаментализм
Короткий адрес: https://sciup.org/170166147
IDR: 170166147
Текст научной статьи Идеологический и политический дискурс религиозного фундаментализма в обществе риска
З а последние десятилетия понятие общества риска прочно вошло в категориальный аппарат социально-гуманитарного знания. Традиционные объекты исследования политических наук – государство, общество, политические организации – постепенно претерпевают коренные изменения. Многообразие интеграционных социальных и экономических связей, объединяющих мир в единую глобальную систему в результате усиления отношений взаимозависимости, актуализируют необходимость осмысления различного рода глобальных последствий данных процессов, в т.ч. в коммуникативном пространстве политических общностей. Глобальное политическое пространство современного постиндустриального общества представляет собой, в первую очередь, сферу коммуникативного взаимодействия субъектов властной репрезентации, конфликта, асимметричного распределения ценностей и ресурсов. Это динамичное многомерное образование, бесконечно продуцирующее новые групповые солидарности, пространство многообразных форм ценностной идентификации индивидов. Оно находится в постоянном поиске равновесных состояний. Неизбежным следствием этих процессов в политике является то, что все большее число событий принимают характер рискогенных. Вопросы, связанные с рисками, приобретают не только стратегическое, но и идеологическое значение. В чем же заключается взаимосвязь риска, власти и коммуникации на практике?
Все властные ресурсы – административные, партийные, общественные, финансовые, информационные – представляют собой капитал. Риск – это также ресурс символического порядка, обладающий определенным мобилизационным потенциалом. В понятии риска и его трактовках в рамках идеологических программ присутствует отсылка к интересам и ценностям различных идеологически ангажированных субъектов. В этом смысле риск актуализируется в форме коллективных символических представлений и оказывает свое воздействие на социальные процессы через установление такого режима коммуникации, в ходе которого достигается необходимое согласие между участниками политического взаимодействия по поводу угроз и опасностей, с которыми сталкивается та или иная политическая общность. В этой связи можно предположить, что властно-политические отношения как сфера актуализации группового единства и политического порядка теснейшим образом связаны с коммуникацией риска. Сама катего- рия власти трактуется, по словам К. Роэ, в качестве «способности достижения коллективного единства при отсутствии предполагаемого консенсуса» 1. Более того, само это воспроизводство и достижение унифицированного политического порядка осуществляется в условиях конфликта с другими альтернативными позициями.
Соответственно, политическая коммуникация по поводу рисков является тем ресурсом или способом воздействия на общественное сознание, с помощью которого определяются базовые политические ценности и закрепляются нормы, определяются фундаментальные опасности и угрозы интересам и ценностям субъектов власти. Таким образом, риск в аспекте политической коммуникации так или иначе связан с типом дискурса, который в итоге и порождает определенную социальную шкалу рисков и опасностей. Она в дальнейшем становится мерилом всех последующих политических взаимодействий.
Любой дискурс как символический властный ресурс, определяющий политическую репрезентацию рисков, обладает структурной организацией и представляет собой диалектический синтез различных компонентов: 1) интенциональный элемент (властные интенции, стратегии, смыслы, ценности); 2) деятельностнокоммуникативный элемент (реализация властных интенций в живой деятельности, имеющей знаково-символический характер); 3) ценностно-смысловой компонент (сфера понимания смыслов, ценностей, идентичностей, репертуар политических интерпретаций различных событий); 4) контекстуальный план (расширение смыслового поля на основе социокультурных, исторических и иных контекстов); 5) психологический план (эмоциональный энергетический заряд, содержащийся в дискурсе и придающий дискурсу суггестивную силу).
Современный этап процесса глобализации со всеми его многочисленными противоречиями породил новые идеологические дискурсы. Будучи весьма различными и даже антагонистическими по своим ценностным установкам, данные дискурсы имеют одну общую черту – они распространяются и поддерживаются благодаря развитой системе массовых коммуникаций и различных технологий политического маркетинга в публичной сфере. Особенно сильной эмоциональной заразительностью обладают дискурсы, культивирующие религиозные и националистические чувства. Религиозные и националистические дискурсы интенционально ориентированы на борьбу с угрозами, исходящими от разнообразных сил (иноверцы, шовинисты, раскольники, сепаратисты), которые, согласно заложенной в идеологических структурах данных дискурсов легенде, размывают и подрывают религиозную и национальную идентичность. Образы врага, имманентно присутствующие в религиозных и националистических дискурсах, часто сознательно и целенаправленно демонизируются определенной частью религиозных и политических деятелей. Это приводит к возникновению в массовом сознании эмоционально напряженного и чрезвычайно заразительного чувства ненависти.
Одно из центральных мест в структуре политических коммуникаций современного мира, бесспорно, занимает дискурс религиозного фундаментализма. Термин «фундаментализм» быстро вошел в социальный словарь за прошедшие три десятилетия как общее обозначение возрожденческого консерватизма, претендующего на религиозную ортодоксальность. Хотя термин первоначально применялся только к христианству, его употребление было привязано к Иранской революции, а затем и к исламизму. Энтони Гидденс определяет фундаменталиста «как человека, который в принципе отказывается вступать в диалог, кто считает свой образ жизни совершенным и достойным, а чужой — сравнительно низшим и недостойным. Это очень опасно: чем больше нам приходится жить в мире, где необходимо уживаться с людьми, которые на нас непохожи, тем опаснее становится этот принцип»2.
Сегодня мы можем наблюдать борьбу между различными формами фундаментализма и сохранением принципа космополитизма. Фундаментализм определяет не содержание или объект верований, а способ. Следовательно, термин имеет отношение к социальной коммуникации более, нежели к теологическому знанию. Фундаментализм в трактовке концепции общества риска является продуктом современности, поскольку он не просто защищает традицию, но упрощает ее, подавая в средствах массовой информации и акцентируя оппозиционность. Фундаменталисты первыми начали использовать СМИ для пропаганды своих идей.
Говоря о фундаментализме, стоит упомянуть, что этот феномен обязан своим возникновением глобальной коммуникации: фундаментализм – это совсем не то, что традиционный фанатизм. Это реакция на возможность создания более «космополитичного» социального союза1. Фундаментализм, объявляя войну традиции посредством мифологемы «возрождения», выплескивает вместе с водой и ребенка.
Традиционно фундаментализм рассматривали как движение очищения от побочных влияний. Однако в настоящее время фундаментализм все больше трактуется как просто вмешательство религии в политику государств. Очевидно, что всякое активное воздействие религии на государство может неизбежно привести к изменениям политического и социального строя, экономики, законодательства. Особенно остро вопрос стоит в отношении исламизма, поскольку исторически шариат не знал разделения светской и духовной власти. Правильней будет сказать, что подобное разделение – это элемент христианства («Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня… но ныне Царство Мое не отсюда» [Иоан.18:36]; «Он сказал им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» [Лк. 20:20–26]). В наши дни христиане продолжают активно поддерживать эту позицию. Например, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (РПЦ МП) в одном из выступлений поясняет, что «рая на земле построить невозможно»2. Именно это разделение, как правило, останавливает фундаменталистский задор.
Отечественная и западная пропаганда стала использовать термин просто как ярлык, что, конечно, неприемлемо для социального анализа. Словарь Larousse предлагает считать фундаментализм лишь антидарвинистским направлением протестантской теологии. Во время Исламской революции слово прочно входит в политлексику, так что у него есть все шансы стать «зомби-понятием» (в терминологии Ульриха Бека)3. Пока этого не случилось, надо спасти слово, выражающее интересную научную интенцию. В России глубокий научный анализ фундаментализма предприняли исламоведы А.А. Игнатенко, А.В. Журавский, Л.Р. Сюкияйнен, А.В. Малашенко и многие другие. Как исламоведы, они работали с соответствующим материалом. Так получилось, что в России исследования фундаментализма в массе своей обязаны именно исламоведению. С христианским материалом работает небольшое число исследователей (из ярких авторов можно вспомнить А.В. Митрофанову, а также спорный труд К. Костюка «Православный фундаментализм»4). Исследователь фундаментализма в христианской среде сталкивается с неизменной интроверсией сознания православных христиан в России, которая сводит на нет все попытки сконструировать модель фундаментализма.
Больше данных предоставляют, несомненно, исламские общности в силу большей социальной активности. Попробуем теоретически обобщить данные о фундаментализме как проблеме коммуникации в религиозной общности. Со ссылкой на Гейдара Джемаля отметим важный момент, что для исламского самосознания это понятие является переводным, распространившимся в ходе полемики с западными критиками: «Существует несколько вариантов перевода на арабский и на фарси... эти слова являются разными версиями кальки и свидетельствуют о том, что само понятие не имеет собственной базы в исламском менталитете»5.
Следует также отметить, что присутствует путаница с понятиями «фундаментализм» и «радикализм». Достаточно четкое различие между этими терминами в ряде своих публикаций проведено отечественным исследователем арабо-мусульманской философии Артуром Сагадеевым. Об этих различиях и существующих между ними сходных чертах также писал В. Акаев в своей статье «Исламский фундаментализм на Северном Кавказе: миф или реальность»1. Однако во многих издаваемых в России работах термины отождествляются. Происходит это либо в силу незнания проблемы, либо, к сожалению, из-за явного стремления представить ислам в качестве феномена антикультуры2. В исламском мире выражение «исламский фундаментализм» отсутствует. Арабским аналогом является термин «усул ад-дийн» (фундамент, основа, корни), поэтому перевод может просто ничего не означать – «учение об основах ислама». Российские студенты-мусульмане, нисколько не сомневаясь, спрашивают, что плохого в фундаментализме, если фундамент – это основа. Этот простой и действенный вопрос активно поддерживается в секторе исламистского (не исламского) Рунета. Для анализа социальной проблематики до сих пор осталась непроходимой пропасть между культурой мысли ислама и западноевропейской ориенталистикой.
Фундаментализм актуализирует потребность ухода личности в самоидентифи-кацию3, ухода вовне – в социальное пространство, но от принятых и институционализированных вариантов коммуникации. Расхождение социального действия как ухода в самоидентификацию и как выхода «к другому» обусловливает и ценностные, и институциональные особенности. В концептах фундаментализма, таким образом, объединяются разнопорядковые движения, имеющие место в разных концах света, учитываются идеологические и организационные, стихийные и сознательно регулируемые, внутренние и международные, мирные и насильственные аспекты глобальной дестабилизирующей активности.
Для России одновременно и источником, и рефлексией, и критикой востоковедения стало творчество Гейдара Джемаля, которое исследователи определили как «синтетическое возрождение ислама и России в евразийском контексте»4. России Джемаль предлагает скорее фундаменталистский проект: «Сегодня Россия – во всяком случае, определенные силы в ее политическом и социальном истеблишменте – могли бы сделать ставку на поддержку исламского фундаментализма, а точнее говоря, альтернативного Западу исламского всемирного проекта, и тем самым вернуть России статус сверхдержавы, который сегодня уже не гарантируется, скажем, сугубо ядерным фактором»5. Не соглашаясь с геополитическим проектом, надо отметить – найден социальный аналог ядерному оружию, превосходящий его. Как философ, Джемаль видит проблему именно в теоретической плоскости – недостаточности российского исламоведения, которое «страдает от таких общезападных методологических дефектов, как эмпиризм, вульгарный социологизм и боязнь соприкосновения с метафизическим фактором, непосредственно действующим в человеческом измерении»6. Таким образом, реализация исламистского проекта предполагает глубинную и широкомасштабную социальную трансформацию, поскольку нигде в мире не существует государства, в котором все без исключения аспекты жизнедеятельности общества регулировались бы только и исключительно исламскими шариатскими нормами7. В этом отношении, по мнению Игнатенко, не является таким государством даже Саудовская Аравия (достаточно сказать, что в исламских шариатских нормах не предусмотрено существование королевской власти).
Итак, в социальном отношении фундаментализм амбивалентен: отрицая модернизацию, он использует традицию, но себя позиционирует непосредственно через обращение к священному тексту. Формально исключая новацию, он подает ее как возрожденную традицию. При этом фундаментализм оказывается с лицом модерна, на что указывает совпадение основных социальных характеристик – убежденная рациональность действия, примат политики, тоталитарная идеология, понимание высшей цели как преобразования центральных политических институтов. Принципиальными свойствами фундаменталистской идеологии являются тоталитарность (ее идеологемы можно вычленить лишь аналитическим путем), дихотомическое восприятие мира, априорность, расширенный коммуникационный и мобилизационный потенциал (присущий ей как идеологии
«откровения»), протестный активистский характер, миссионерский экспансионизм, преобладание морализаторства над «человеческим измерением», идеологическая неоднородность (обусловленная как структурой самой религиозной общности, так и неоднозначностью толкования теоретиками ряда положений), наличие собственного политического языка на основе лингвистической полисемии1. Конститутивным для фундаментализма является его конфликт с другими вариациями модерна, а вовсе не внешние формальные признаки.
Таким образом, фундаментализм – проблема естественная для социального развития, отношение к нему теории должно быть корректным.
Публикация выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект №12–33–01206–а2.