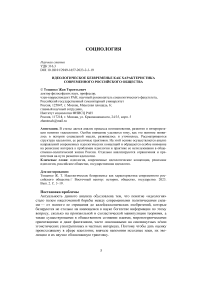Идеологическое безвременье как характеристика современного российского общества
Автор: Тощенко Ж.Т.
Журнал: Восточный вектор: история, общество, государство @eurasia-world
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье дается анализ процесса возникновения, развития и интерпретации понятия «идеология». Особое внимание уделяется тому, как это понятие появилось в истории социальной мысли, развивалось и уточнялось. Рассматриваются структура идеологии, ее различные трактовки. На этой основе осуществляется анализ направлений современных идеологических концепций и обращается особое внимание на ренессанс интереса к проблемам идеологии и практике ее использования в общественно-политической жизни России. Отдельно анализируются ограничения и препятствия на пути развития идеологии.
Идеология, современные идеологические концепции, ренессанс идеологии, российское общество, государственная идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/148327284
IDR: 148327284 | УДК: 316.3 | DOI: 10.18101/2949-1657-2023-2-3-19
Текст научной статьи Идеологическое безвременье как характеристика современного российского общества
Тощенко Ж. Т. Идеологическое безвременье как характеристика современного российского общества // Восточный вектор: история, общество, государство. 2023. Вып. 2. С. 3–19.
Постановка проблемы
Актуальность данного анализа обусловлена тем, что понятие «идеология» стало полем ожесточенной борьбы между современными политическими силами — от полного ее отрицания до калейдоскопических изобретений, которые базируются не столько на имеющемся в науке богатстве информации по этому вопросу, сколько на произвольной и схоластической манипуляции теориями, а также существующими в общественном сознании идеями, мировоззренческими ориентациями и даже фантазиями, часто основанными на сиюминутных и/или эгоистических узкогрупповых и частных интересах. Поэтому чтобы дать оценку происходящему в сфере идеологии, вначале напомним исходные идеи, их эволюцию и их научно обоснованную трактовку.
Идеология — непременный атрибут развития общества
Понятие «идеология» появилось в научной терминологии в конце ХVIII в. как продукт осмысления существующих реалий в духовно-культурной и социальнополитической жизни общества. В научный оборот это понятие ввел французский философ-просветитель Антуан Дестют де Траси (1754–1836). В его концепции идеология представлена как совокупность идей, призванная, с одной стороны, привести в единую систему достижения различных, в первую очередь социальных, наук, с другой стороны, поставить на научную основу решение задач этики и практической политики. Мыслитель рассматривал идеологию как социально полезную форму знания, которая должна быть такой же точной, как естественные науки. В своем труде «Система идеологии», вышедшей в свет в 1804 г., он обозначил свое представление об идеологии, понимаемой им как учение об общих закономерностях их происхождения и функционирования идей в процессе развития общества. По его мнению, выдвинутая им концепция должна выступать одним из основных принципов организации государственной и общественной жизни. Он видел отражение в идеологии первооснов морали, политики, права. В своем труде он показал, что ни одно общество, ни одна существующая в нем организация и даже ни один человек не может и не обходится без тех или иных важных для них идей, которые имеют всегда оценочную сторону своего существования, что позволяет их идентифицировать как идеологические. По его трактовке, особую роль в идеологии играет то, что относится к мировоззрению, к ценностным ориентациям. Идеология, по его убеждению, является той организующей и скрепляющей силой, которая придает смысл жизни и деятельности каждого государства, общества, каждой организации и всех людей, независимо от того, осознают они это или нет. Но главная причина ее существования состоит в том, что в любом случае — осознанно и стихийно — все они, государство, организации, социальные группы (общности) — всегда будут ориентироваться на социально окрашенные оценки, на желаемые и предпочитаемые ими интересы, на способы обеспечения условий для своего нормального функционирования. Образно говоря, своим утверждением де Трасси поставил вопрос о множественности видов идеологии, раз ее субъектом являются многие акторы социальноисторического процесса.
В дальнейшем процесс осмысления понятия «идеология» был продолжен К. Марксом и Ф. Энгельсом, которые способствовали тому, чтобы термин «идеология» вошел в широкий оборот как в науке, так и в политической жизни. Обычно этот вывод об их разработке данной концепции связывают с их трудом «Немецкая идеология», в которой они определяли идеологию как «политическое мышление, формируемое в интересах определенных групп общества», как одну из форм превращенного сознания [14, с. 60]. Однако при этом надо сделать следующие оговорки (замечания). Во-первых, этот труд не был известен современникам: он был впервые напечатан чуть не век спустя, в 1932 г. в Советском Союзе. Во-вторых, почему этот труд не вышел в свет, Маркс объяснил тринадцатью годами позже, в 1859 г. в «Критике политической экономии»: «Мы тем охотнее предоставили рукопись грызущей критике мышей, что наша главная цель — уяснение дела самим себе — была достигнута» [13, с. 8]. Эта совместная работа была плодом работы «для себя», для того чтобы самим разобраться и осмыслить накопленные идеи о развитии общества, оценить их и определить их роль и значение в жизни нарождающегося класса — пролетариата. В-третьих, часто обращают внимание на то, что в этой работе они говорят об идеологии как о ложном сознании и не всегда замечают, что ими использовалось и другое понятие — наивное, иллюзорное восприятие социального бытия, так как при анализе существующих на тот период времени представлений об общественном развитии они обратили внимание на их ограниченность, односторонность, отсутствие логически обоснованного понимания законов развития обществ, в том числе и буржуазного.
Поэтому вполне оправданно рассматривать те труды Маркса и Энгельса, в которых понятие «идеология» стало достоянием теоретической мысли и руководством для осуществления политической деятельности. Именно такой подход впервые нашел отражение в «Манифесте Коммунистической партии», в котором было обосновано представление об идеологии как научной теории и ее практическом использовании. В нем они обратили внимание на то, как конструируются идеи различными политическими силами и представителями правящего капиталистического слоя в своих классовых и групповых интересах. По их мнению, существующие и функционирующие идеологии опираются на социальные интересы, позиции и ценности эксплуататорских классов и в первую очередь буржуазии. В результате доминирующая идеология — буржуазная — является проекцией интересов не всего общества, а только одной (меньшей) его части — капиталистов. Поэтому в противовес буржуазной идеологии должна возникнуть и стать действенной силой пролетарская идеология, мировоззрение рабочего класса. В этом документе утверждалась точка зрения, согласно которой именно пролетарская идеология в большей мере отражает объективные потребности общественного развития и в большей мере выражает интересы большинства народа, в первую очередь рабочего класса [15, с. 46–56].
Хотелось бы отметить еще одно важное положение. Нередко идеологию трактуют только как некую обобщающую концепцию, которая объединяет и выражает идеи класса, большой социальной группы и государства. Между тем идеологические установки несет и стремится воплотить в жизнь каждая социальная единица, каждый человек. Такой подход нашел отражение в творчестве Маркса и Энгельса. Что касается Маркса, то он при анализе объективных свойств господствующих экономических отношений, определяющих тип общественного строя и соответствующее ему сознание показал, что мировоззрение каждого индивида в основном зависит от принадлежности к тому классу, к которому он принадлежит и определяется местом, которое он занимает в структуре общественного производства. Но одновременно большую роль играет тот факт, что каждый индивид обладает и субъективными свойствами — личными ценностными ориентациями, установками, предпочтениями, формирующими его отношение к окружающему миру во всем его многообразии. Эти духовные конструкции могут в большей или меньшей степени соответствовать объективной реальности, которая в них представлена. Иначе говоря, каждый человек, независимо от того, осознает он это или нет, является носителем определенных идеологических установок, в которых выражаются его социально-классовые интересы.
В дальнейшем Маркс и Энгельс развивали эти идеи, что, на наш взгляд, нашло отражение в таких наиболее значительных работах, как «Критика Готской программы» и «Развитие социализма от утопии к науке» (1880). Особенно значим их вывод о том, что в отличие от предшествующих идеологий мировоззрение пролетариата не сводится ни в коей мере к защите узкоклассовых интересов. Оно раскрывает подлинную панораму происходящих исторических процессов, определяет место каждого класса в социальной борьбе, раскрывает объективные закономерности общественного развития. Именно поэтому идеология пролетариата носит научный характер, выступает средством социального ориентирования масс.
В рамках марксистской парадигмы наиболее значительные размышления об идеологии принадлежат В. И. Ленину. В его трактовке идеология как идея рабочего класса обозначена как научный социализм или марксизм, как особый язык революционных масс [8, с. 269]. Он особенно настойчиво повторял мысль о том, что идеология выступает одним из факторов сплочения всего общества вокруг рабочего класса и его партии в интересах достижения целей как в борьбе против царизма, так и при решении задач социалистического строительства [7, с. 41].
В ХХ в. понятие революционной идеологии стало одним из центральных в марксистской традиции и разрабатывалось Антонио Грамши, а Лукач предлагал видеть в идеологии проекцию классового сознания.
Что касается других исследований, то среди них наиболее значителен труд К. Манхейма «Идеология и утопия». В этой работе он в известной мере продолжил развивать идею Маркса о том, что идеология отражает мышление господствующего класса, что идеи, ее составляющие, стремятся к сохранению или постоянному репродуцированию существующего образа жизни. По его убеждению, господствующая идеология выполняет функцию стабилизации, используя при этом приемы что-то умалчивать, а что-то выпячивать для обеспечения устойчивости существующего и угодного ей политического режима. Отметим только своеобразие трактовки мышления (сознания) угнетенных классов — К. Манхейм называет их утопией [10].
Заслуживает внимания и вклад Т. Адорно и М. Хоркхаймера, основателей Франкфуртской школы, которые переняли и развили Марксов концепт «критики идеологии» («Диалектика просвещения», 1947). Они проводили различие между «сводной идеологией» субъекта и его идеологиями в различных областях социальной жизни (таких как политика, экономика или религия), подчеркивали, что идеологии различных эпох есть продукты исторических процессов.
Представляет интерес и попытка некоторых исследователей охватить все многообразие подходов с точки зрения и науки, и политической деятельности. Так, для Уилларда Маллинза идеология составлена из четырёх базовых характеристик: должна властвовать над познавательной способностью; должна быть способна руководить оценочными суждениями; должна служить инструкцией к действиям; должна быть логически последовательна [28].
Постепенно в ХХ в. в дискуссиях по поводу сущности идеологии сформировались две точки зрения. Одна из них, которая потом нашла отражение в работах многих советских обществоведов, сводилась к тому, что идеология — это совокупность (и даже система) научных теоретических взглядов, которые разрабатываются специалистами и в которых находят отражение объективные потребности общественного развития, предназначенные для выражения интересов трудящих- ся. Эта идея была наиболее полно и последовательно развита в трудах отечественных философов Н. Биккенина и Л. Москвичева, которые делали акцент на доказательстве научных основ идеологии, воплощенной, по их убеждению, в марксистско-ленинском учении [3; 16].
Другая точка зрения рассматривает идеологию как бесконечное множество идей, при помощи которых люди осознают свой мир, свои интересы, свои ценностные ориентации, свое понимание устройства окружающего мира, своей страны, непосредственно окружающей среды. А так как осознание и понимание разнообразно, разнопланово и отражает различные мировоззренческие позиции, то соответственно существует множество идеологий, которые находятся в постоянном взаимодействии, в соперничестве и даже противостоянии [7; 18].
Ряд авторов уделял внимание тому, что идеология стимулирует политические действия, участвует в трансформации управления, играет роль символической защиты [9, с. 79–90].
Но несмотря на эти различия, большинство исследователей сходится в том, что ни одна страна, общество, государство не могут существовать без идеологии, она имеется в каждом из них, независимо от официального ее признания. Более того, в любом обществе существуют различные социальные группы, социальные общности, которые имеют свою идеологию, свои идейные установки, нередко кардинально отличающиеся друг от друга. При этом наиболее ярким проявлением существования многих идеологий являются политические партии, которые отражают и выражают основные устремления и особенности восприятия той социальной базы, которую они представляют (или претендуют представлять). Следовательно, в окружающем мире в реальной действительности независимо от специфики различных обществ идеология необходимый элемент их существования. И если эта определенность отсутствует, то можно в полной мере говорить о потере той стратегической цели, ради которой общество и государство существуют. В ином случае возникает духовный вакуум, который лишь разъединяет участников данного социально-исторического процесса.
Анализ процессов, которые происходят в реальном мире, позволяет сделать вывод, что идеология — это совокупность взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются экономические, политические, социальные и духовнонравственные отношения в целях их реализации в реально существующей действительности во всем ее многообразии . В идеологиях, которые вырабатываются политическими силами (государством, партиями, массовыми движениями), содержатся цели (программы) их деятельности, направленные на закрепление или изменение (развитие) данных общественных отношений, исходя из мировоззренческих позиций, находящих отражение в ценностных ориентациях, установках и интересах. Идеология предполагает, что она при всех ее многообразных проявлениях воплощает в себе: а) не просто знание, но и его оценку; б) знание, связанное с тем, что является для исповедующих (придерживающихся) ту или иную идеологию ценным, важным, тем, к чему надо стремиться; в) понимание того, как достигнуть провозглашенных целей, что неминуемо ведет к борьбе мировоззрений, постоянному их сопоставлению и отстаиванию в ходе политической и/или социальной борьбы.
Современные российские идеологии
Напомним, что идеи — особый, своеобразный и специфический продукт общественного бытия. Они рождаются, развиваются, нередко живут самостоятельной жизнью. Многие из них остаются мимолетной искрой, другие служат отдельным социальным и политическим силам ограниченное время. И среди этого потока множества идей лишь некоторые из них становятся не только отражением духовных смыслов отдельных людей или некоторых групп и объединений, но и воплощаются в реальной жизни государств, народов, всего человечества.
Что является критерием их значимости и устойчивости в процессе исторического развития? При каких условиях они становятся достоянием народов, его основных классов, определяющих будущее и судьбы миллионов людей? История развития революций — наглядный тому пример превращения идей в материальную силу.
История революций и прежде всего российской убедительно продемонстрировала стратегию и тактику большевиков, реализовавших убеждение К. Маркса: «Идеи становятся материальной силой, когда они овладевают массами» [12, с. 416]. В 1917 г. произошло слияние воедино идей социалистической революции, воплощенной в программе большевиков и других левых партий, и устремлений основных движущих сил — рабочего класса и крестьянства. Реализацию этих идеолого-политических целей обеспечивал достаточно высокий уровень организационной работы, партийной дисциплины, последовательность действий большевиков. То, что не удалось ни одной политической партии того периода, удалось большевикам. Именно они в своих идеях и действиях олицетворяли желания большинства народа, что и обеспечило им массовую поддержку не только в период захвата власти, но и в течение длительной и изнурительной гражданской войны. Чаяния народа воплотила в себя программа большевистской партии, что стало залогом ее победы. Этот факт признавали даже те, кто на дух не переносит коммунистические и социалистические идеи.
Поэтому нелепой оказалась современная российская официальная политика по отношению к проблемам идеологии. Травмированность современной духовно-нравственной сферы российского общества во многом объясняется тем, что в Конституции РФ зафиксировано положение: в России нет государственной идеологии. Это негативное отношение к слову «идеология» во многом может быть объяснено тем, что в Советском Союзе признавалась (официально) только одна идеология — социалистическая. Попытки сказать, что наряду с ней существуют и другие идеологии, жестко пресекались и отвергались. Поэтому ассоциация понятия «идеологии» со словом «социалистическая» (а зачастую и «коммунистическая») сформировала предубежденность к ней, а в ряде случаев превращала это слово чуть ли не в ругательство.
Отказываясь от государственной идеологии , «творцы» Конституции России полностью игнорировали тот факт, что ни одно из существовавших и существующих государств не обходится без официальной идеологии при признании возможности одновременного существования других мировоззренческих позиций и ориентаций. Появившиеся предложения об ошибочности и изменения этой статьи Конституции РФ встретили ожесточенное сопротивление либералов, особенно таких видных их представителей, как политолог Н. Сванидзе, журналист
М. Гусман, протоиерей Вс. Чаплин, пугая всех возможным возрождением сталинизма, появлением нового ГУЛАГа. С этих позиций происходит интенсивная дегероизация отечественной истории, когда ниспровергается все, что являлось ориентиром для того, чтобы человек чувствовал себя патриотом. В таких условиях ничего святого не остается, кроме чувства полной растерянности, неуважения и даже презрения к отечественной истории.
Отказ от официальной идеологии привел к тому, что общественному сознанию была нанесена колоссальная травма, ибо в этой ситуации произошла потеря прежних ориентиров, а новые не были сформированы . Были утрачены прежние ориентирующие идеи, которые являются (или должны являться) непременным атрибутом всякой эффективной власти.
Однако, как показывает реальный исторический процесс, идеология, несмотря ни на что, возвращается [19]. Отсутствие государственной идеологии стало одним из пороков становящейся российской государственности. Уже при Ельцине это упущение было замечено. Но, не желая возвращаться к отвергнутому понятию «идеология», выдвинули предложение — найти национальную идею. Смысл предпринятого очевиден — народ надо объединить вокруг общественно значимых ориентиров, которые были бы понятны всем и побуждали желание и стремление участвовать в их реализации. В 1990-е гг. разразился целый бум инициатив, начиная от цитирования слов Уварова (министра просвещения правительства России в середине ХIХ в.) «Православие. Самодержавие. Народность» и до бесконечных поисков найти заветные призывы, устраивающие всех. Но это был поиск, заранее обреченный на провал. Это были идеи отдельных искателей истины, ученых, политиков, просто амбициозных персонажей. Хотя справедливости ради можно сказать, что в ходе обсуждения были высказаны интересные идеи и предложения. Но их ограниченность, условность была определена тем, что это были поиски отдельных идей, без обращения к мнению народа, к его пониманию того, чего надо добиваться и как строить отношения в существующем обществе. Это отражал и такой феномен — за эти годы как ни пытались назвать, охарактеризовать ситуацию в стране — «управляемая демократия» и «консервативная модернизация» и другие подобные изобретения. Отсутствие объединяющей идеи пытался устранить и недавний идеолог Кремля В. Сурков, предложив пространную концепцию о глубинном народе и в то же время не обращая внимания на те идеи, к которым стремится этот народ [21].
Против того, чтобы у России была идеология, особенно яро выступают либеральные силы, считая, что это ограничит поиск творческих сил, будет означать насилие над умами и поведением людей и, что самое опасное, будет способствовать укреплению тоталитаризма. В этих возражениях неизвестно чего больше — лукавства или просто незнания сути дела. Если речь идет о лукавстве, то они подменяют тезис — речь идет о единственной (??) идеологии в стране или о государственной, которая выражает стратегические идеи государства, не отменяя существование других идеологий. Если речь идет об использовании этого понятия в реальной политике, то об идеологии (это особенно важно) и об ее обновлении говорят многие политические деятели за рубежом, например, президент Франции Макрон [6].
Если рассмотреть современную ситуацию в России, то в реальной политической и духовной жизни существует много идеологий, среди которых необходимо выделить основные. В результате в обществе, как в калейдоскопе, сложился конгломерат различных мировоззренческих ориентаций, которые самым причудливым образом отражают устремления различных социальных групп и общностей.
Во-первых, определенное влияние имеет либеральная идеология, которая нацелена на такие внешне привлекательные ценности, как развитие демократии и обеспечение прав человека, но в достаточно специфическом толковании. Под этим флагом подразумевается нацеленность на преимущественное существование, развитие и функционирование частной собственности, превращение государства в «ночного сторожа», абсолютная, безоговорочная ответственность каждого человека за свой жизненный путь, за свою судьбу, за свою конкурентоспособность для выживания в нынешних российских реалиях. Более того, открыто провозглашается, что «новое неравенство» не может считаться несправедливым, поскольку в его основе лежит не принуждение, а результат деятельности творческих (креативных) личностей [5]. Социальную базу либеральных идей сначала составила часть населения, надеявшегося, что эти идеи обеспечат ему более благоустроенную жизнь, чем в Советском Союзе. Слова известного режиссера С. Говорухина «так жить нельзя» пришлись по душе многим людям, поверившим в существенное обновление общественной и личной жизни. Но уже в первые годы существования новой России большинство людей убедилось, что ориентация на либерализм выгодна сравнительно небольшому количеству захвативших власть амбициозных деятелей и их окружению, успевших за короткий срок нажиться на разграблении национального богатства под видом приватизации, залоговых аукционов и специальных правовых актов, узаконивших различные приемы захвата государственной (общенародной) собственности. Показательно, что социальная база либерализма за все годы существования новой России значительно сократилась. Народ отверг правые партии в их стремлении захватить законодательные и представительные органы власти. В общественном мнении были развенчаны и прежние, и существующие лидеры либерализма, начиная с Е. Гайдара. Однако, несмотря на отсутствие поддержки народа, экономические идеи либерализма продолжают существовать на государственном уровне. Именно существование и продолжение реализации либеральных идей на официальном уровне привели (наряду с другими факторами) к стагнации социальноэкономического развития России, к росту социального неравенства, к увеличению социальной напряженности, к формированию общества травмы [22].
Будучи неспособными сформулировать реальные предложения о будущем России, либералы сосредоточивалось на решении эгоистических групповых или личных устремлений. «Истинные интересы и мотивы власти, которая взяла на себя ответственность за историческую судьбу России в 1991 г., никак не связаны с декларированными целями. Разговоры о демократической рыночной экономике и соответственно политических и экономических реформах, призванных обеспечить ее становление, были не более чем идеологическим прикрытием для куда более прозаических целей и задач» [27, с. 26].
Показательно, что ограниченность и даже гибельность идей либерализма стали очевидными и для президента страны, когда в интервью газете «Financial
Times» в июне 2019 г. прозвучала резкая оценка роли и значения либерализма в жизни как всего мира, так и отдельных стран. Причем президент особо подчеркнул, что проблема состоит не столько в том, что либералы и их идеи существуют, а в том, что «эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения подавляющему большинству»1. Но пока очевидно, что либеральная идеология в значительной степени способствует тому, что российское общество носит черты общества травмы.
Во-вторых, в современной России продолжает существование и развитие социалистическая идеология, несмотря на кризис с идеями социализма и коммунизма. Эта идеология никуда не исчезла и, более того, имеет тенденцию к ее большему распространению. Показателен в этом случае небольшой исторический экскурс. В 1994 г. во время выборов в первую Государственную думу за партии, олицетворяющие социалистические ценности, проголосовали в общей сложности около трети избирателей. Объяснение, особенно (нео)либералов, было такое: эти голоса — это голоса людей, сходящих с исторической арены, так как они олицетворяют установки старшего поколения, которому трудно смириться с изменением политического строя. А порой им, мол, невозможно расстаться с советским прошлым. Но скоро они уйдут. Придет новое поколение, и оно продемонстрирует иные ценности, иные ориентации. Но вот прошло более четверти века после этих выборов. И что же показывают выборы разного уровня в 2018 г.? Оказывается, опять не менее трети отдало предпочтения различным социалистическим и коммунистическим течениям (организациям, движениям). Как объяснить этот выбор? Ведь старшее поколение в самом деле ушло. Выросло новое поколение. И оказывается, что и для нового поколения социалистические ценности продолжают быть важными, значимыми. Иначе говоря, социалистическая идея продолжает свое существование, так как она олицетворяет собой вековую мечту о справедливом государстве, каким и был Советский Союз при всех зигзагах его развития. При этом надо отметить, что социальная база этих идей изменилась (что, к сожалению, еще не осознают левые партии): теперь не рабочий класс представляет собой ведущую политическую и социальную силу — он раздроблен, он трудится в различных экономико-финансовых условиях, опосредованных различными формами собственности. На наш взгляд, социальную базу левых идей составляет прекариат (от лат. нестабильный, неустойчивый, негарантированный), который состоит из больших социальных групп, живущих в состоянии неуверенности в стабильности своего нынешнего и будущего положения [20]. Именно эти группы заинтересованы в реализации социалистических идей, которые они считают олицетворением справедливого общества. Эти группы не отвергают существование частных форм собственности, ратуют за установление социального (но не уравнительного) равенства и в качестве желаемой цели ратуют за социальную справедливость. Именно поэтому можно согласиться с выводом, что «старые различия между левыми (коммунистическое и социал-демократическое крыло) уже в значительной степени потеряли свое значение, о всяком случае, на уровне теории» [18].
В-третьих, в 2000-е гг. вырос спрос на консервативно-патриотическую идеологию, которую в настоящее время олицетворяет ряд довольно разношерстных социально-политических течений — от приверженцев идей традиционализма, ценностей предшествующих поколений до разного рода этнонациональных, националистических и конфессиональных организаций. И хотя в том или ином варианте все они выступают за сохранение национально-исторических ценностей, за их приумножение, за воспитание преданности стране, за поддержку традиций и обычаев в жизни современных граждан, эти организации лишь условно могут быть названы скрепляющей и нравственной силой, так как одежды патриотов надевают и те, кто сбежал за границу, захватив немало уворованных в стране средств, и те, кто живет в криминальном мире, и те, кто ради получения различных дивидендов готов присоединиться к этой идеологии. В этой связи возникает далеко не праздный вопрос — может ли считаться олигарх патриотом, если 70–80% капитала за границей?
На поле патриотизма играют многочисленные партии и движения — от либерально-демократической партии В. Жириновского до региональных объединений, ратующих за особенный путь развития своих территорий. Разношерстность этих сил усугубляется тем, что консервативные и патриотические идеи по-разному трактуются и реализуются политическими акторами разных национальностей, что нередко приводит к рассогласованности действий, а иногда и к столкновению. В этом случае ориентация русских националистов на соборность, патриотизм и коллективизм не всегда согласуется с целями национальных и националистических организаций других народов, что позволяет сделать вывод о необходимости следования тому пути, который был в историческом прошлом каждого народа [4].
В-четвертых, осуществляется попытка придать национальной идеологии облик религиозного фундаментализма, в первую очередь православия. Эта попытка реализуется предложениями амбициозных политиков, которые в своем желании заявить о себе, удержаться на плаву, предлагают свое видение мировоззренческих установок россиян и методы их формирования. Так, небезызвестный депутат Госдумы Е. Мизулина, которая уже многие годы стремится остаться в политике и для этого сменившая несколько партий в своем служебном рвении, в 2013 г. предложила идею — отразить в Конституции РФ, что православие является «основой национальной и культурной самобытности России», таким образом, заменив отсутствие понятия «государственная идеология» (Версия. 2018. № 49). К сожалению, в обновленной Конституции появилось слово «Бог», что в принципе противоречит другому положению Конституции о том, что Россия является светским государством.
Однако вернуться в прошлое невозможно, что неоднократно доказано историческим опытом. Поэтому попытки РПЦ выйти на желаемую ей траекторию внедрения в сознание россиян канонов и догм церковного учения встретили пассивное, сдержанное, а порой и явное сопротивление. Особый ущерб церкви принесло ее стремление прямо или косвенно участвовать в управлении государством, которое наряду с вмешательством в дела образования, культуры, воинской службы и даже науки позволяет утверждать о некоторых теократических чертах российского государства [24].
Отсутствие у государства и общества стратегической цели в виде идеологии порождает различные специфические и спорные идеи о «милитаризации сознания» [25] или о превращении среднего класса из опоры общества в источник его раскола и дестабилизации [26]. Стоит отметить и навязчивые и невразумительные попытки и стремления построить в России «славяно-православную политическую культуру» и утвердить «соборно-вечевую мораль», а также доказать, что будущее предсказал апостол Павел [2, с. 39, 46, 49].
Состояние российского общества как общества травмы порождает и такие эр-зац-идеологические формы, как квази-, псевдо-, контр- и паракультуры, паразитирующие на ожиданиях и надеждах людей, что порождено, с одной стороны, неуверенностью людей в своем положении в существующем обществе, с другой, превращением культуры в бизнес-культуру, в средство получения прибыли, в том числе и за счет потакания низменным вкусам части населения. Это состояние привело к расцвету манипуляций Кашпировского, Чумака, Лолы и подобных мистических лиц. Это поветрие охватило даже верхи, которые страдали от сомнений в своих властных возможностях, в результате чего было создано даже подразделение в охране Ельцина по изучению паранормальных явлений и использованию их в политике. Отсутствие четких социальных ориентиров при возросшей личной неустроенности и шаткости реальной и будущей жизни привело к росту всяческих магов, колдунов, предсказателей, гадалок, число которых к концу 2010-х гг., по экспертным данным, насчитывало более 800 тыс. человек с годовым доходом более 10 млрд долларов. Распространение мистики беспокоит даже религиозных мыслителей. Игумен Петр Мещерский выразил большую озабоченность за культуру в целом, ибо такое состояние возвращает сознание людей в далекое прошлое, возрождая темную сторону жизни людей.
К этому следует добавить, что в политическом и идейном дискурсе существующей политической власти исчезла пропаганда личных качеств человека — чести, достоинства, трудолюбия, они забыты, исчезли или скомпрометированы. Не стало для официальных властей тех людей, которые воплощали в себе лучшие черты человека, которому бы следовало подражать, брать пример, ориентироваться в своих делах и поступках. Оскудение нравственного облика — это тоже один из показателей идеологического обнищания общества травмы. В манипулирование общественным сознанием и навязывание идеологических ориентаций были вовлечены и музыка, и дизайн, и реклама [1, с. 88].
Таким образом, анализ возможностей для консолидации российского общества показывает, что оно находится под угрозой в условиях существования различных идеологий, отражающих, как правило, интересы, ценностные ориентации и установки различных социальных классов, общностей, групп. Реальная ситуация требует формулировки стратегической цели развития России, находящей свое выражение в государственно-общественной идеологии с четким обозначением средств и методов ее достижения. Без такой идеологии Россия не может в полной мере выйти из травматического состояния.
Основные деформации духовно-нравственной жизни российского общества
Для российского общества, превратившегося в общество травмы, характерна потеря гомогенности. Суть гомогенного общества раскрывается как формули- ровка общественного идеала, согласно которому оно определяется как сообщества однородных, свободных субъектов, равных в своих правах, равных перед законом, равных перед общественным договором, равных перед требованиями морали и т. д. Здоровое общество всегда относительно гомогенно.
Формирование гомогенного общества является целью не только политических режимов, тоталитарного и авторитарного, но и для демократических и социалистических идеологий. Демократическое общество при всей приверженности к многообразию взглядов в определенных, прежде всего экстремальных для общества, ситуациях всегда стремится к формированию общественного консенсуса, к определенной идеологической однородности, по крайней мере, по отношению к правам человека. Анализируя государственную политику с точки зрения стремления власти к созданию гомогенного общества, объединенного единой идеей (национальной, социальной или любой другой), можно достаточно ярко выявить тенденции к формированию в данном обществе (государстве) элементов тоталитаризма.
Если в стабильно развивающихся государствах, представляющих гетерогенное общество, в условиях существования в них различных классов, социальных групп и общностей достигается определенная согласованность отношений и способов устранения возникающих конфликтов, то в травмированных обществах относительное социальное согласие находится под угрозой или серьезно нарушено. Применительно к России можно сказать, что если в условиях Советского Союза существовало гомогенное общество, когда классовые и социальные различия были незначительны, то в условиях современной России об этом говорить просто невозможно как в настоящее время, так и в долговременной перспективе. Различия настолько значительны, что делают страну похожей на африканские страны или опрокидывают ее почти что в феодальное прошлое.
Дискурс развития и стабильности сменился на дискурс консерватизма, сохранения только традиционных ценностей, укрепления духовных скреп, т. е. обществом, в котором каждый занимает определенное место. Этим обществом легче управлять, хотя оно часто меняется, и тогда его развитие мало предсказуемо, но обязательно подвержено изменениям, нередко коренным. Такая ориентация политической власти на консерватизм продиктована тем, что сложившаяся модель российского общества, многие ментальные привычки населения дают для нее некоторое основание считать, что если все же идут дела хотя бы несколько лучше, чем раньше, то зачем менять тенденции и направления развития? Поэтому массово распространено скептическое отношение к переменам, риску, отказу от старого, от смены ролей. Справедливо утверждение, что общество с низкой мобильностью слабо реагирует на инновации, трудно подвергается модернизации. Но путь консервации уязвим, если он проводится без сочетания и без учета новых потребностей времени, что чревато непредвиденными конфликтами, обострением отношений на всех уровнях социальной организации общества.
В этих условиях происходит выход на первый план в общественном сознании идеологии потребительства под маркой строительства социального государства, тем более что о его существовании говорится в Конституции РФ. Материальный успех стал преобладающим в жизненных ориентациях молодежи и предпочитаем среди многих у старшего поколения. Причем средством достижения материально- го благополучия становится отнюдь не труд и не трудолюбие, им являются рыночные критерии — власть, капитал, паблисити. По данным социологов РГГУ, во всероссийском исследовании на вопрос «Какие обстоятельства определяют, на Ваш взгляд, социальное положение и престиж человека в нашем обществе?» 67% ответили — владение капиталом, деньгами, 58% — обладание властью или доступ к ней, 57% — связи с нужными людьми при 19% считающих, что роль играют личные достижения в образовании и профессиональной подготовке и столько же — личные качества (ум, привлекательность). Все это позволяет сделать вывод, что новый строй не разбудил творческие силы людей, не нашел убедительные механизмы заинтересовать людей в повышении эффективности и результативности труда. Это объясняет и тот факт, что производительность труда за 2012–2018 гг. вместо провозглашенных в 50% выросла лишь на 4%.
Именно под флагом потребительской идеологии происходит коммерциализация не только экономической, но и социальной и культурной жизни. И для них стал распространенным такой термин — «услуги». Услуги — это показатель рыночных отношений, которые предполагают не безвозмездную акцию за оказанные действия. Это привело к тому, что и сфера культуры, образования, науки стали рассматриваться в основном только с точки зрения получения дохода, прибыли, будучи уравнены с функционированием производства товаров, с реализацией требований рыночной экономики.
Фактически из лексикона общественной жизни и социальных практик исчезли такие понятия, как мораль и нравственность. Были подвергнуты обструкции практически все реальные достижения предшествующих эпох и в первую очередь советской. Стало распространяться унизительное и презрительное слово «совок», под которым понимались все советские люди. Был осмеян «Моральный кодекс строителя коммунизма», хотя внимательное его прочтение говорит, что 70–80% его содержания совпадает с Нагорной проповедью, с моральными установками других религий, в которых зафиксирован тысячелетний опыт развития народов, использованный и апробированный в организации публичной и личной жизни. Следствием такого подхода стало уже не скрытое, а декларируемое, открытое презрение и отношение к основным слоям народа как быдлу, как неудачникам, как бесперспективной, не умеющей жить массе. Стало модным декларировать свой успех, престижное потребление, презрение к тем, кто находится ниже по социальной лестнице. А если это декларируется сверху, в виде пожелания учителям, недовольным своей оплатой труда, идти заниматься бизнесом, то можно представить степень моральной деградации и абсолютной оторванности от реальной жизни произносивших эти слова.
Деформацию морального климата усиливает, с одной стороны, имитация деятельности, которая исходит, прежде всего, от представителей органов управления, которую достаточно отчетливо улавливает общественное сознание. С другой стороны, во все в большей степени распространяется такое явление, как аномия, которое проявляется в социологически измеряемом феномене, как доверие. Именно его реальное состояние в России показывает катастрофически низкий его уровень ко всем уровням властной вертикали за исключением президента страны.
Произошло кардинальное изменение информационного пространства. Средства массовой информации — газеты, телевидение, радио — стали отражать интересы тех, кто их финансирует, не или мало заботясь о подаче правдивой информации. В результате стали массовыми фейковые методы в виде полного или частичного искажения, односторонней трактовки, преувеличения информации о происходящих в мире и в окружающей среде событиях, явлениях, процессах. Не удивительно, что именно в подобной обстановке появился феномен, такой как информационные киллеры (Доренко, Невзоров), которые прекрасно продемонстрировали методы передачи полуправды.
По мнению Ф. Шереги, шоу-передачам российского телевидения впору присвоить эпитет «истерический междусобойчик». Они занимаются «стиркой грязного белья», вынося на телеэкран в фокусированном виде все дрязги звезд шо-убизнеса, разваливающихся семей и генетические аферы в отношении детей, якобы неизвестно от каких отцов родившихся. Такой концентрации социальной грязи в истории советского телевидения не было. Еще хуже ситуация с политическими шоу: порой опасаешься как бы не испачкаться от брызг с экрана слюны мечущихся в истерике телеведущих, поливающих все и вся, только не видящих бревно в своем глазу. Порой становится непонятным, то ли мы живем в России, то ли в Украине, то ли в США? В стране масса проблем с разрушающимися селами или горящими от степных и лесных пожаров. Но этих тем на политических телешоу не существует. Такая позиция российских СМИ, строящаяся на сгущении и злорадном смаковании несчастий людей, по сути, формирует у населения России чувство неполноценности, неспособности решить проблемы собственными силами, унижает его [2]1. И почему исчезли рассказы о жизни и деятельности людей различных профессий, событий на производстве и в культуре (и не только звездных персон), поиски смысла жизни учителя, медсестры, инженера, шофера (кстати, это самая большая профессия в стране — их насчитывается более 7 млн), пасечника и т. д. и т. п. И построить это таким образом, чтобы было не только интересно слушать и смотреть, но и чтобы части молодежи захотелось сделать жизнь по этим образцам. Но, к сожалению, довлеет установка: писать о народе — не формат.
Кроме того, через средства массовой информации, в том числе через интернет, стали навязываться вопреки здравому смыслу сомнительные стандарты толерантности, политкорректности. К чему это приводит, говорит опыт ряда стран в отношении гомосексуалов, феминистской идеологии, ксенофобских организаций, когда вопреки здравому смыслу реализуется примиренческое отношение ко всем без исключения актам, особенно когда это касается общественного порядка и нравственности.
Немалую дезорганизующую роль в формировании нового мировоззренческого поля сыграли акции либералов и на поле словотворчества, когда полностью отрицались прежние слова и выражения, конструировались и внедрялись новые: «управляемая демократия», «либеральная империя», «консервативная модернизация». Придумали слова-обманки «крепкий хозяйственник», «надежный руко- водитель», «эффективный менеджер» — и даже заигрывают с термином «технократ». И зачем было запрещать слово «товарищ»?
В этом отрицании всего советского дело доходило до абсурда. Деструктивные личности вроде известного телеведущего П. Лабкова, который вел дачную тему, но никогда не забывал в каждой передаче лягнуть «советскую власть», коммунизм вместе с социализмом, оперировать при характеристике прошлого только словом «коммуняки». Патологические наклонности проявлялись в регулярных заявлениях типа «погребение Владимира Ленина стало бы для России шагом вперед» (директор Государственного музея истории ГУЛАГа Р. Романов). Вместо того чтобы заниматься делами созидания, эти люди видят возможность применить свои «способности» только к тому, чтобы «бегать с гробами», чем в свое время особенно прославился А. Собчак. По мнению Л. Радзиховского, это «ненависть классовая, стадная, почти биологическая» [16].
К этому примыкают и такие акции, когда амбициозные деятели, не зная, как проявить себя, выступают с такими законодательными инициативами: Следственный комитет России должен возбудить уголовное дело о заговоре с целью убийства Пушкина. Другая деятельница, прикрываясь заботой о здоровье, предлагает закрепление в законодательном порядке иметь каждому гражданину России талию не более 90 см. И это вместо решения вопросов, которые так остро стоят во всех сферах общественной жизни, в том числе и духовной.
Таким образом, в укреплении или дезорганизации жизни государства и общества важнейшую роль играет идеология. Однако существующее безвременье в духовно-идеологической сфере только усиливает травмирующее воздействие на человеческий потенциал и социальный капитал. Возникшие новые вызовы для социума в виде необходимости мировоззренческой определенности требуют скорейшего решения проблем жизнеустройства россиян, гуманизации их трудовой и общественной деятельности, создания возможностей для раскрытия творчества и реального участия в строительстве нового общества.
Список литературы Идеологическое безвременье как характеристика современного российского общества
- Адорно Т. Избранное: социология музыки. Москва; Санкт-Петербург: Университетская книга, 1998. 445 с. Текст: непосредственный.
- Асонов Н. В. Современная политическая культура России как элемент гражданского и религиозного типов общества // Социально-гуманитарные знания. 2019. № 2. С. 39–47. Текст: непосредственный.
- Биккенин Н. Б. Социалистическая идеология. Москва: Политиздат, 1983. 414 с. Текст: непосредственный.
- Дугин А. Г. Геополитика России. Москва: Гаудеамус: Академический проект, 2011. 584 с. Текст: непосредственный.
- Иноземцев В. Кризис великой идеи // Свободная мысль. 2011. № 1. С. 17–28. Текст: непосредственный.
- Крашенинникова В. Европа: быть или не быть // Литературная газета. 2019, № 10. 13–19 марта.
- Ленин В. И. Три источника и три составные части марксизма // Полное собрание сочинений. Т. 23. Москва: Изд-во полит. лит-ры, 1973. 622 с. Текст: непосредственный.
- Ленин В. И. Шаг вперед, два шага назад (Кризис в нашей партии) // Полное собрание сочинений. Т. 6. Москва: Госполитиздат, 1963. 644 с. Текст: непосредственный.
- Макаренко В. П. Главные идеологии современности. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 476 с. Текст: непосредственный.
- Манхейм К. Идеология и утопия // Избранное: диагноз нашего времени. Москва: Юрист, 1994. 698 с. Текст: непосредственный.
- Марков Б. В. Незавершившаяся революция: политическая философия Франкфуртской школы // Вестник СПбГУ. Философия и политология. 2018. Т. 24, вып. 1. С. 79–90. Текст: непосредственный.
- Маркс К., Энгельс Ф. К критике гегелевской философии права // Сочинение. Москва: Госполитиздат, 1954. Т. 1. С. 414–429. Текст: непосредственный.
- Маркс К., Энгельс Ф. К критике политической экономии // Сочинение. Москва: Госполитиздат, 1959. Т. 13. 770 с. Текст: непосредственный.
- Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. Москва: Госполит-издат, 1950. 72 с. Текст: непосредственный.
- Маркс К., Энгельс Ф. Нищета философии // Сочинения. Москва: Госполитиздат, 1955. Т. 3. 630 с. Текст: непосредственный.
- Москвичев Л. Н. Теория «деидеологизации»: иллюзии и действительность. Москва: Мысль, 1971. 238 с. Текст: непосредственный.
- Радзиховский Л. Классовая ненависть // Версия. 2019. 4 марта. URL: https://versia.ru/klassovaya-nenavist?ysclid=lfv4p8ze2x151755546 (дата обращения: 12.03.2023). Текст: электронный.
- Ржешевский Г. О кризисе великой идеи // Свободная мысль. 2011. № 4. С. 147–158. Текст: непосредственный.
- Славин Б. Ф. Идеология возвращается. Москва: Социально-гуманитарные знания, 2009. 647 с. Текст: непосредственный.
- Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. Москва: Ад Маргинем Пресс, 2014. 328 с. Текст: непосредственный.
- Сурков В. Долгое государство Путина // Независимая газета. 2019. 11 февраля. URL: https://www.ng.ru/ideas/2019-02-11/5_7503_surkov.html?ysclid=lftxbkir3m403233546 (дата обращения: 15.03.2023). Текст: электронный.
- Тощенко Ж. Т. Общество травмы: между эволюцией и революцией (опыт теоретического и эмпирического анализа. Москва: Весь мир, 2020. 352 с. Текст: непосредственный.
- Тощенко Ж. Т. Прекариат: от протокласса к новому классу. Москва: Наука, 2018. 350 с. Текст: непосредственный.
- Тощенко Ж. Т. Теократия: фантом или реальность? Москва: Academia, 2007. 664 с. Текст: непосредственный.
- Ципко А. С. Милитаризация сознания убивает инстинкт самосохранения и делает смерть сакральной // Независимая газета. 2019. 3 июля. URL: https://www.ng.ru/ideas/2019-07-03/5_7613_ideas.html?ysclid=lfty0370qq708703866 (дата обращения: 16.03.2023). Текст: электронный.
- Щипков А. Протестная рента. Средний класс, призванный консолидировать общество, его раскалывает и дестабилизирует // Независимая газета. 2019. 7 июля. URL: https://www.ng.ru/politics/2019-07-07/8_7616_chrono.html?ysclid=lfty3vlguj156576270 (дата обращения: 16.03.2023). Текст: электронный.
- Явлинский Г. А. Периферийный капитализм. Москва: Интегорал-Информ, 2003. 159 с. Текст: непосредственный.
- Mullins W. A. (1972). On the Concept of Ideology in Political Science // American Po-litical Science Reviewю No. 66(2). P. 498–510. DOI: 10.2307/1957794.