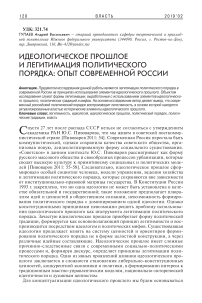Идеологическое прошлое и легитимация политического порядка: опыт современной России
Автор: Тупаев Андрей Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
Предметом исследования данной работы является легитимация политического порядка в современной России на принципах использования элементов идеологического прошлого. Объектом исследования служат формы легитимации, выработанные с использованием элементов идеологического прошлого, политических традиций и мифов. На основе исследования автор делает вывод, что современный российский политический порядок воспроизводит легитимность, в основе которой находятся актуализированные властью исторические элементы идеологического прошлого.
Легитимность, идеология, идеологическое прошлое, политический порядок, политические традиции, власть
Короткий адрес: https://sciup.org/170170890
IDR: 170170890 | УДК: 321.74 | DOI: 10.31171/vlast.v27i2.6338
Текст научной статьи Идеологическое прошлое и легитимация политического порядка: опыт современной России
С пустя 27 лет после распада СССР нельзя не согласиться с утверждением академика РАН Ю.С. Пивоварова, что мы живем в советской посткоммунистической стране [Пивоваров 2011: 54]. Современная Россия перестала быть коммунистической, однако сохранила качества советского общества, организовав новую, деидеологизированную форму социального существования. «Советское» в данном контексте Ю.С. Пивоваров рассматривает как форму русского массового общества и своеобразных процессов урбанизации, которые сводят высокую культуру к примитивизму социальных и политических моделей [Пивоваров 2011: 55-58]. Следовательно, идеологическое прошлое сформировало особый социотип человека, модели управления, ведения хозяйства и легитимации политического порядка, которые сохраняются вне зависимости от институционально-правовой матрицы государства. В Конституции России 1993 г. закреплено, что ни одна идеология не может быть установлена в качестве обязательной и государственной; такое положение предполагает плюрализм идей и ценностей в общественном сознании, невозможность формирования политического порядка с доминированием одной идеологии. Однако конституционными принципами невозможно решить проблему использования идеологического прошлого как инструмента легитимации политического порядка. Зачастую идеологическое прошлое приобретает форму политической традиции, формируется как основополагающий принцип легитимности и воспроизводится посредством идеологем и политических мифов. Существовавшая идеология продолжает влиять на систему ценностей и ориентиров формирования политического порядка не в форме целостной конструкции, а через различные идейные составляющие. Идеологическое прошлое имеет сложные причинно-следственные связи с современными социально-политическими процессами и, формируя дискурс, определяет принципы легитимации политического порядка. Одно из явных проявлений влияния идеологического прошлого заключается в сложности становления либерально-конституционных ценностей, конкурентной экономики и политики, в формировании интереса к традиционным властно-управленческим моделям, национально-исторической идентичности и духовным ценностям.
Для концептуализации идеологического прошлого мы будем основываться на синтезе трех понятий: это историческое прошлое, коллективная память и идеология. В концепции французского философа Р. Барта историческое прошлое представляет собой нарративные конструкции, мало связанные с реальными историческими событиями и подчиненные идеологическому дискурсу [Барт 2003: 340]. Следовательно, историческое прошлое – воображаемая конструкция, выраженная в дискурсе настоящего и использующаяся для создания вымышленной репрезентации исторических событий. Понятие коллективной памяти используется в рамках концепции А. Ассман [Ассман 2014]. Теория коллективной памяти, предложенная немецким историком и культурологом, характеризуется междисциплинарностью и носит символический характер. Коллективная память передается из поколения в поколение через символы, ритуалы, памятные даты, мемориальную культуру. История и память – взаимодополняющие понятия: они проявляются друг в друге, исторические события приобретают свойства мемориализации. Коллективная память связана с социальной коммуникацией. Носителем памяти выступает мозг индивида, матрицу воспроизводства памяти задают символические медиаторы. Обращение к историческому прошлому связано с современными проблемами и поиском исторического обоснования существующей социальной реальности. Идеология выполняет ряд важных политических функций. Так, М. Фриден [Freeden 2006] подчеркивает, что когнитивные свойства идеологии выполняют функцию легитимации, интеграции, социализации, упорядочения, упрощения и ориентации действия [Игры… 2016]. Когнитивный подход к идеологиям, предложенный М. Фриденом, следует дополнить лингвистическим пониманием идеологии как системы взглядов и социологическим – как выполняющим функцию господства-подчинения. Согласно Т. ван Дейку, идеологии обнаруживают принципиальное сходство с аттитюдами [Поцелуев, Константинов 2016: 1612]. В дискурсивном измерении это сходство представлено диалогикой «вопрос – ответ»; на когнитивном уровне – структурой «проблема – ее решение»; на социальном уровне – конфликтом интересов [Поцелуев, Константинов 2016: 1610]. Таким образом, идеологическое прошлое представляет собой репрезентацию идеологических процессов в историческом прошлом, включенное в когнитивно-дискурсивную матрицу оценки современного политического порядка.
Ответ на вопрос: «Какое общество мы хотим увидеть в будущем?» – напрямую взаимосвязан с оценками идеологического прошлого и требует существенного теоретического осмысления. Вопрос существования политического порядка тесно связан с легитимностью власти [Булдаков и др. 2011: 58]. Формирование легитимности начинается с определения, какую именно легитимность имеет современное российское государство. Ю.С. Пивоваров выделяет два вида легитимности – историческую и конституционно-правовую. Дополняя друг друга, они создают народный суверенитет, придавая ему релевантность и консенсуальность. Современная Россия по типу своей легитимности кардинально отличается от Российской империи и СССР. Поначалу, следуя конституционному мейнстриму XIX–XX вв., доминирует конституционно-правовая легитимность, т.е. проект конституции сработал вне зависимости от того, осознавало общество или нет исторический компонент легитимности. Конституция 1993 г. позволила связать русскую модель власти и западную модель конституционного устройства. Если говорить об исторической легитимности, которая сформировалась путем объявления Россией себя правопреемником СССР в международных отношениях, можно утверждать, что Россия есть продолжение СССР в содержательно-историческом смысле. Это проявляется в том, что природа современного российского общества не антисоветская, а некая постсоветская стадия развития существовавшего соци- ума. Таким образом, конституционно-правовая легитимность была дополнена легитимностью правопреемства России по отношению к советскому периоду, а СССР – по отношению к дореволюционной России и связана с русской системой власти, ценностью величия державы, претендующей на ключевые мировые позиции [Булдаков и др. 2011: 62].
В современной России фактически произошел отказ от выборной сменяемости власти, реформирована модель избирательной системы, усилены теневые и неконституционные институты. Все это привело к уменьшению действия правовой легитимности. Конституция переместилась на периферию реальной политики. Легитимность, основанная на праве и конституции, перестала быть необходимостью. Параллельно происходит формирование принципов реализации правопреемства от СССР, отбор политических событий, которые могут быть использованы в процессе легитимации политического порядка. Современной власти невыгодно брать на себя ответственность за все происходившее в советский период. Поэтому советское прошлое было ритуально осуждено за сталинские репрессии, ошибки коллективизации, войну в Афганистане и т.д. Однако была проигнорирована противоречивость революции и гражданской войны, превозносится победа в Великой Отечественной войне, при этом отходят на второй план детальное исследование коллаборационизма и страдания народа. Для собственной легитимации власть использует только образ народа-победителя и освободителя Европы во Второй мировой войне. Выборочность исторических событий свидетельствует о том, что конституционно-правовая легитимность в отношении политического порядка сегодня подменяется идеологизированными интерпретациями исторических событий.
Современная Россия не обладает устойчивой формой конституционно-правовой легитимности. Институциональный фундамент государства непрочен, а исторические перспективы зависят от идеологических приоритетов действующей власти. В этой ситуации усложняется процесс самоидентификации политических предпочтений индивидов в обществе. Необходимый базис в виде конституционно-гражданской конструкции, в которой закреплены права и обязанности индивида, дискредитирован в политическом дискурсе и не выполняет качественно институциональную функцию. Альтернативой в отношении гражданской самоидентификации выступают идеологемы и политические мифы, предлагаемый властью идеократический характер управления. С такой позиции идеология апеллирует к надындивидуальным ценностям, подменяя собою демократические принципы конкуренции политических идей в обществе. В рамках идеологической самоидентификации индивид представляется как неотъемлемая часть целого, тогда как в гражданско-правовой – как самостоятельно действующий субъект, носитель ценностного и правового компонента данного общества. Таким образом, можно утверждать, что в российском обществе слабо выражена гражданско-правовая самоидентификация, по-прежнему доминирует патримониальный принцип отношения к государству [Паин, Федюнин 2017].
Процесс формирования легитимности политического порядка имеет определенные катализаторы, позволяющие охарактеризовать существующую систему власти в современной России как продукт традиционалистских и авторитарнобюрократических тенденций. Данная позиция выражена В.П. Макаренко в статье «Но что есть слава и успех»1. Нужно различать реальную власть и официальную легитимность, основываясь на тезисе, что ни один государствен- ный институт и само государство не могут быть абсолютно легитимными. Легитимация есть сложный процесс формирования доверия у граждан к власти, иными словами, власть постоянно должна доказывать гражданам свою успешность и необходимость [Макаренко 2018]. Следовательно, сила и успех власти – это абсолютно разные ее характеристики. Решая данное противоречие, власть использует всякие идеологические доктрины, принимает политические решения, подменяя реальное положение дел образами, сформированными положительными процессами, для формирования общественного сознания. В СССР элементы легитимации включали такие средства, как материальные блага, насилие, эффективность власти и привычка, а также апатия населения. Эти аргументы можно рассматривать через элементы авторитарно-бюрократической тенденции русской революции [Макаренко 2013: 181]. К этим элементам относятся: идея достижений и успехов, способность к руководству и патриотизм. Аргументы предстоящего будущего стали одним из основных аргументов оправдания власти и проявляются в трех формах: это светлое будущее, революционная миссия рабочего класса, уверенность в верности выбранного пути развития. Однако ни одна из этих задач не была реализована советской властью, следовательно, это свидетельствует об утопичности реализуемой идеологии и политики и, более того, дискредитирует революционную идею о том, что великая цель оправдывает различные средства, включая насилие, произвол и гражданские конфликты. Следующий аргумент состоит в том, что достижения и успехи эксплуатируются в любой политической системе, которая не поддерживается большинством населения страны. Список достижений советской власти постоянно возрастал, в него входили достижения абсолютно во всех в сферах народного хозяйства, а также международные победы, спортивные достижения и приобщение к благам культуры. Декларирование достижений, различных успехов занимало основное место в выступлениях представителей власти. Следовательно, убеждающая сила различных побед и достижений обладает мнимой идеологической нейтральностью, а в реальности является той же технократической идеологией.
Можно выделить две разновидности легитимации, основанные на достижениях и успехах. Первое – это сравнение существующих достижений с недостатками прошлого. Такая легитимация использовалась советской властью вплоть до 1960-х гг. Параллели для сравнения проводились с экономическими показателями царской России в 1913 г. Второй вид легитимности – сравнение достижений страны с недостатками внешнего мира. Данный вид использовался и продолжает использоваться в сравнении России со странами Запада с присущими ему проблемами безработицы, социальной незащищенности индивида, невозможностью духовно и нравственно развиваться, нарастающими проблемами глобализации. Подобные действия были направлены на дискредитацию западных демократических государств. Немаловажным принципом в этой аргументации было утверждение: «все так делают», который использовался в постсоветской России и позволял легитимировать недостатки любых политических решений и не брать ответственность за принимаемые решения или неудачи в реализации этих решений.
Аргумент патриотической легитимации по мере становления советской власти постоянно возрастал, формируя целый набор вербальных и символических форм. Наиболее используемым принципом было отождествление интересов общества с интересами правительства, государства и идеологии. На основании этого антипатриотическим поведением можно назвать любые выступления против существующего политического и социального порядка, власти, государства и конституционного строя. Это приводит к дискредитации настоящего патриотизма, не нуждающегося в государственных программах, концепциях развития и политике воспитания. Таким образом, можно констатировать, что на протяжении существования советской власти произошло смещение акцентов с телеологической легитимации, основанной на достижениях и успехах, а также особой руководящей роли КПСС, к патриотической, этатистской и технократической легитимации, которые используются и современной российской властью.
Подводя итоги, можно утверждать, что вопрос оснований легитимности власти является принципиальным для любого общества. Способы обретения легитимности власти являются продуктом исторического развития государства и социума, включают в себя инструменты политической мобилизации, принципы солидарности и справедливости. Идеологическое прошлое может послужить инструментом изменения оснований легитимности с конституционноправовых форм на идеологические. Отсутствие дискуссионности по принципам и формам достижения легитимности способствует только замещению легитимности идеологией. Любое государство, которое стремится к обоснованию легитимности в одностороннем порядке, не основываясь на солидарности с обществом, формирует идеологизированную систему лжи. Вопрос самоидентификации тесно связан с легитимностью власти. Какую именно легитимность имеет современный политический порядок государства? В этом вопросе приобретает значимость оценка идеологического прошлого, политических традиций и исторической преемственности.
Статья подготовлена при поддержке внутреннего гранта ЮФУ №ВнГр-07/2017-27.
Список литературы Идеологическое прошлое и легитимация политического порядка: опыт современной России
- Ассман А. 2014. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение. 328 с
- Барт Р. 2003. Система Моды: статьи по семиотике культуры (пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина). М.: Изд-во им. Сабашниковых. 512 с
- Булдаков В.П., Гудков Л. Д., Зубов А.Б., Пивоваров Ю.С. 2011. Россия на рубеже веков, 1991-2011: сборник. М.: РОССПЭН. 158 с
- Игры на идеологической периферии. Праворадикальные установки студенческой молодежи Ростовской области (под ред. С.П. Поцелуева). 2016. Ростов н/Д: ЮНЦ РАН. 396 с
- Макаренко В.П. 2013. Русская власть и бюрократическое государство. Ростов н/Д.: Март. Ч. 1. 652 с
- Макаренко В.П. 2018. Насилие и политическая бюрократия. Ростов н/Д.: Изд-во Южного федерального университета. 312 с
- Паин Э.А., Федюнин С.Ю. 2017. Нация и демократия: перспективы управления культурным разнообразием. М.: Мысль. 266 с
- Пивоваров Ю.С. 2011. «…Ивразвалинах век». - Полис. Политические исследования. № 6. С. 52-77
- Поцелуев С.П. Константинов М.С. 2016. Имперский палингенез: праворадикальные идеологемы в студенческой среде (статья первая). - Политика и общество. № 12(144). С. 1608-1619
- Freeden M. 2006. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Oxford University Press. 602 p