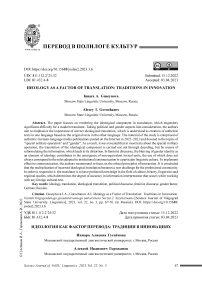Идеология как фактор перевода: традиции в инновациях
Автор: Гусейнова И.А., Горожанов А.И.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Перевод в полилоге культур
Статья в выпуске: 3 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено проблеме трансляции идеологического компонента в переводе, учет которого представляет собой значительную трудность для современного переводчика. Авторы ставят цель, фокусируясь на политическом и гендерном аспектах, акцентировать важность корректного идеологического перевода, который понимается в статье как создание аутентичных текстов на одном языке с опорой на оригинальные тексты на другом языке. В качестве материала исследования привлекается массив аутентичных публикаций немецкоязычных СМИ, размещенных в сети Интернет в 2022-2023 гг. и посвященных темам «специальная военная операция» и «гендер». В результате исследования выявлено, что в большинстве текстов о специальной военной операции трансляция идеологического компонента осуществляется не через перекодирование, а через переформулирование информации, приводящее к ее искажению. В феминистском дискурсе размывание гендерной идентичности как элемент идеологии способствует формированию безэквивалентных лексических единиц, использование которых не всегда соответствует правилам, принятым в институциональном общении в той или иной лингвокультуре. Для осуществления эффективной коммуникации авторы рекомендуют коммуникантам с разными гендерными установками ориентироваться на этические принципы взаимодействия. Делается вывод о том, что мультипликация некорректного идеологического перевода становится новым вызовом для профессионального сообщества. Ответ на него требует от переводчика глубоких знаний в области культуры, истории и лингвострановедения, поскольку именно от них зависит степень интерпретации информации, возникающей в ходе работы с любым инокультурным текстом.
Идеология, перевод, идеологический перевод, политический дискурс, феминистский дискурс, гендерный фактор, немецкий язык, русский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/149143733
IDR: 149143733 | УДК: 811.112.2’25:32 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2023.3.6
Текст научной статьи Идеология как фактор перевода: традиции в инновациях
DOI:
Стимулом к написанию данной статьи послужили многочисленные публикации в немецкоязычной прессе, посвященные актуальным для западного читателя темам – специальной военной операции (далее – СВО) и гендерному фактору. Большое внимание исследователей привлекают номинативный и интерпретативный аспекты перевода, которые порождают дискуссии в межкультурном сообществе, способствуя тем самым формированию актуальной повестки дня, а для профессионального переводчика представляют существенные трудности.
В эпоху информационного противостояния нам кажется важным рассмотреть примеры идеологического перевода, который на протяжении последних трех десятилетий не играл существенной роли в профессиональном сообществе, но сегодня приобрел особую значимость [Рудницкая, 2013; Михайловская, 2018; Смирнова, 2021; Мэй, Дубкова, 2022].
Идеологический компонент перевода в широком понимании включает языковые, когнитивные, социокультурные и иные составляющие. В общеизвестном смысле идеологический компонент трактуется как система ценностей и ценностных ориентаций, разделя- емых большинством представителей конкретной лингвокультуры (см., например: [Булыгина, Трипольская, 2020; Хорина, 2021]). Главная задача переводчика заключается в сохранении и передаче средствами родного языка тех аксиологических смыслов, которые закодированы средствами иностранного языка. Однако он должен установить, что подлежит переводу – ценностный или собственно идеологический компонент. В первом случае от переводчика ожидается трансфер культурно-исторического содержания, основанного на его индивидуальных глубоких энциклопедических знаниях, и кропотливая работа с различной справочной литературой – словарями, глоссариями, энциклопедиями, лексиконами и т. п. Во втором случае от него требуется понимание заданного политического вектора и сохранение последнего на всем пространстве текста. Принято считать, что идеологический компонент присущ политическому дискурсу [Будаев, Чудинов, 2019; Моргунова, Морару, 2022; Селиванова, 2022]. Именно при изучении этой разновидности институционального дискурса анализируются лексемы и устойчивые комплексные знаки с элементами идеологии. Нередко подобные лексические единицы выступают в качестве шаблонных фраз, призванных структурировать основное содержание медийной публикации. Их рекуррентность оказывает влияние на сознание массового читателя, реформирует его и со временем служит базой для понимания и интерпретации событий (см. об этом: [Титкова, 2014; Иванов, 2019]). В отличие от реалий, ориентированных на сохранение и распространение национальнокультурной специфики как внутри каждой страны, так и за ее пределами, идеологический компонент перевода основан на системе философских взглядов, отражающих государственные интересы и предпочтения. При этом формы представления идеологического компонента варьируют, приобретая нередко символические черты. Например, помещение переведенных текстов в «темпоральную матрицу» (о термине см.: [Халас, 2021, с. 39]) придает тексту соответствующую идеологическую окрашенность. Один и тот же текст, насыщенный символами разных эпох, приобретает идеологическую оформленность.
В свете сказанного нам представляется важным зафиксировать факт наличия в текстах, посвященных СВО и гендерному фактору, идеологического компонента перевода, который выражен посредством переформулирования, то есть искажения сути оригинала. Под переводом здесь мы понимаем не перевод конкретных текстов с русского языка на немецкий язык, а аутентичные немецкоязычные тексты, созданные на основе оригинальных русскоязычных текстов.
Материал и методы
При работе с эмпирическим материалом мы сосредоточились на массиве текстов СМИ на немецком языке, опубликованных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в период 2022–2023 гг. объемом около 20 000 слов. Акцент сделан на двух темах, значимых для немецкоязычного социума, – СВО и гендер, успешно конкурирующих с темами здорового образа жизни, правильного питания и образования. Тексты отобраны по ключевым словам из различных изданий и представляют собой разные жанры современного немецкоязычного медийного дискурса – преимущественно интервью и аналитические статьи. Языковые факты исследовались с применением контекстуального анализа и элемен- тов контент-анализа, что позволило охарактеризовать в лексико-семантическом аспекте не только уже существующие в языке конструкции, но и неологизмы, вызывающие определенную сложность для интерпретации в свете межкультурной и межъязыковой коммуникации в силу их отсутствия в современных авторитетных словарях. Кроме того, были рассмотрены единицы специальной лексики, служащие обозначению гендерной вариативности и требующие дополнительных интеллектуальных усилий от переводчика при составлении эквивалентного текста.
Результаты и обсуждение
В современной лингвистике нет единого толкования понятий «идеологизированная лексика», «идеологема», «идеологическая лексема», «идеологический компонент». Обилие терминов, служащих описанию идеологического содержания, свидетельствует о том, что оно имеет размытый характер, приобретая в одних лингвокультурах черты ценностей, составляющих мировоззрение ее представителей, а в других – систему политических взглядов, транслируемых в коммуникативно-дискурсивном пространстве. Многочисленные термины способствуют процессу деидеологизации, которую мы вслед за И.Г. Земцовым рассматриваем как «разрушение двусигнальной системы человеческого восприятия, когда общественное сознание перестало откликаться на политические сигналы властей, отказалось вырабатывать на них социальные рефлексы» [Земцов, 2009, с. 11]. Сегодня наблюдается тенденция выхолащивания того содержательного компонента, который должен восприниматься реципиентом высказывания в качестве сигнала к определенным действиям и поступкам. Данное обстоятельство приводит к порождению новых стимулов, способных вызвать ответную реакцию у массового реципиента и требующих в условиях межъязыковой коммуникации переводческого комментария.
Понимание идеологии как «определенной системы идей» [Земцов, 2009, с. 176] позволяет рассматривать ее в качестве стратегии, реализуемой в межкультурной и межъязыковой коммуникации для достижения прагмати-
ПЕРЕВОД В ПОЛИЛОГЕ КУЛЬТУР ческих результатов, которые в медийном дискурсе ограничиваются в подавляющем большинстве случаев формированием общественного мнения или определенного отношения к конкретному событию или явлению культурной, политической, социально-экономической сфер.
Применительно к теории и практике перевода нам представляется важным также отметить несколько существенных обстоятельств. Во-первых, идеология характеризуется в трудах отечественных и зарубежных переводоведов (Н.К. Гарбовский, О.И. Костикова, Э. Прунч и др.), но не всегда обозначается как таковая. Например, при описании трагической судьбы сожженного на костре инквизиции Э. Доле акцент делается на его самовольном добавлении в перевод диалога Платона «Антиох» на французский язык интенсификатора со значением «совсем / вовсе». В XVI в. церковь использовала это в качестве повода для жестокой расправы над переводчиком. Такое несущественное, на первый взгляд, добавление для улучшения текста перевода якобы «ставило под сомнение положение о бессмертии души. Ни в греческом оригинале, ни в латинском переводе такого добавления не было» [Гарбовский, Костикова, 2020, с. 196]. Во-вторых, идеология тесно связана с понятием эквивалентности, погруженным в исторический контекст, который и задает вектор перевода безэквивалентной лексики. При этом исследователями подчеркивается, что в переводе необходимо сохранение «обязательного минимума, который должен быть достигнут в результате перевода» [Прунч, 2015, с. 52].
Подчеркнем, что в классическом и современном переводоведении отмечаются следующие виды перевода, используемые в условиях межъязыковой коммуникации: 1) буквальный перевод, построенный на минимальной адаптации грамматических структур; 2) верный перевод, основанный на передаче «точных контекстуальных значений слов с помощью грамматических структур переводящего языка» [Прунч, 2015, с. 78]; 3) идиоматический или скорее смысловой перевод; 4) вольный перевод, призванный передать «фактическое содержание подлинника, а не его форму» [Прунч, 2015, с. 79]; 5) адаптация –
«наиболее свободная форма передачи текста на другом языке» [Прунч, 2015, с. 79].
Однако анализ современных немецкоязычных интернет-публикаций, посвященных заявленным в нашем исследовании темам, свидетельствует о том, что мы сталкиваемся с так называемым идеологическим переводом, который в ряде случаев осуществляется не через перекодирование, а через переформулирование, то есть искажение имеющейся информации. Приведем показательный пример. В немецком языке есть эквивалент выражению специальная военная операция , а именно Sonderoperation , который, однако, практически удален из медийного пространства. Вместо этого очень четкого обозначения применяются лексемы Ukraine-Krieg , Krieg , Angriffskrieg , Abnutzungskrieg , Krieg im Herzen Europas – война с Украиной / на Украине, война, наступательная (агрессивная) война / агрессия, война на истощение, война в сердце Европы, соответственно. В связи с этим мы полагаем, что идеологический перевод может рассматриваться в качестве заданной и последовательно реализуемой стратегии, поскольку «стратегии имеют смысл только тогда, когда есть заданная цель» [Прунч, 2015, с. 155]. Такой подход предполагает применение скопос-теории, в которой ско-пос содержит постановку цели перевода [Волкова, Наливайко, 2022; Мурдускина, Аниськи-на, 2017; Усачева и др., 2015]. Скопос-теория открывает возможности для идеологического перевода. Она придает переводчику статус актора, способного порождать собственный текст, интерпретируя его, оценивая его содержательные фрагменты, принимая решение об оптимизации переведенного текста через применение тех языковых средств, которые в результате могут привести к коммуникативному изменению текстового содержания. Как отмечает Э. Прунч, перевод «пристрастен» при определенных условиях, он становится объектом манипулирования, преимущественно в политических целях [Прунч, 2015, с. 348].
Рассмотрим примеры, свидетельствующие о манипулировании, возникающем в процессе переформулирования при применении идеологического перевода. Так, в немецкоязычных медиа наблюдается четкая тенденция к намеренному представлению России в негативном ключе, что идет вразрез с информацией из официальных русскоязычных источников, ср. нем.:
-
(1) Betrachtet man die Ziele, die Wladimir Putin bereits geäußert hat, lässt das den Schluss zu, dass er nach der Ukraine nicht Halt machen würde. Putin will das Rad der Geschichte zurückdrehen auf den Stand von 1997. Er will die Nato auf den Stand vor der Erweiterung von 1997 zurückdrängen, Europa erneut in zwei Teile spalten und ein russisches Imperium vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer schaffen, in dem eine eigenständige Ukraine keinen Platz mehr hätte (MSN).
Приведем для сравнения фрагмент Обращения Президента Российской Федерации от 24.02.2022, в котором представлена данная тема:
-
(2) Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу, о тех фундаментальных угрозах, которые из года в год шаг за шагом грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе в отношении нашей страны. Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам. Хорошо известно, что на протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. <...> Военная машина движется и, повторю, приближается к нашим границам вплотную. <...> В соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. <...> Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед, никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а вы-
- страивать их самостоятельно – так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем и, несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое. Я верю в это – именно в такое наше будущее (Обращение).
В ходе идеологических интерпретаций упомянутые в приведенном выше тексте Обращения высказывания трансформируются в немецкоязычных СМИ: das Rad der Geschichte zurückdrehen auf den Stand von 1997 (повернуть колесо истории вспять, вернуться к 1997 году); die Nato auf den Stand vor der Erweiterung von 1997 zurückdrängen (вернуть НАТО к состоянию 1997 года) , Europa erneut in zwei Teile spalten (снова расколоть Европу на два лагеря); ein russisches Imperium vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer schaffen (создать Русскую империю от Прибалтики до Черного моря). Таким образом, идеологический перевод реализуется посредством одновременного употребления экспрессивной лексики: das Rad der Geschichte zurückdrehen, zurückdrängen (повернуть колесо истории вспять), этнокомпонента: russisch / ein russisches Imperium schaffen (русский / создать Русскую империю), нагнетания атмосферы напряженности: nach der Ukraine nicht Halt machen würde (не остановится после Украины).
В немецком тексте информация о фактах и явлениях ( NATO , Erweiterung von 1997 , schwarzes Meer и пр.) погружена в негативно окрашенный контекст ( zurückdrehen , Imperium... schaffen , in zwei Teile spalten ), подталкивая читателя к отрицательной интерпретации происходящего.
Важной в аспекте перевода идеологического компонента является тема гендера. Проблема для современных переводчиков заключается в необходимости установления диалогичности в феминистском дискурсе, пронизанном новыми гендерными отношениями [Ефлова, Максимова, Матвеева, 2021; Максимова, 2021; Мочалова, 2021]. Общественные дискуссии в сфере распределения традиционных социальных ролей в обществе, появление разнообразных гендерных идентичностей, продвижение гендерной вариативности на фоне массового распространения измененных гендерных стереотипов порож- дают искусственные трудности для устного и письменного переводчика. Во-первых, возникают неологизмы, требующие поиска соответствующих эквивалентов в переводящем языке, во-вторых, заданная многими зарубежными институциями гендерная политика предполагает применение идеологического перевода, основанного, как говорилось выше, на трансляции системы идей. Таким образом, гендерный фактор приобретает в переводческой теории и практике идеологическое измерение. Если в номинативном аспекте термин гендер может рассматриваться в качестве одного из множества существующих терминов, то его погружение в иноязычный медиаконтекст порождает интерпретативные возможности, требующие учета в процессе перевода. Вслед за Э. Прунчем, который в своей теоретико-методологической деятельности особое внимание обращал также и на феминистский дискурс, мы отмечаем лингвокреативную сторону последнего, основанную на словотворчестве [Прунч, 2015, с. 351]. Для иллюстрации сказанного приведем пример из немецкоязычной прессы. В тексте Auch English hat jetzt ein drittes Geschlecht (И в английском появился третий род), который опубликован в 2015 г., но продолжает пользоваться популярностью в немецкой читательской среде в 2022–2023 гг., описана ситуация, когда профессор Университета им. Гумбольдта (г. Берлин) настаивала в студенческой среде на обращении к ней с профессионально социальным артиклем Professx по аналогии с британским вариантом обращения Mx, которое рассматривается в качестве гендерно нейтрального обращения (Welt). В авторитетных словарях этот и подобные ему неологизмы не зафиксированы, поэтому переводчик сам вынужден принимать решение о том, как переводить такие единицы в ходе выстраивания коммуникации в рамках феминистского дискурса как части гендерного дискурса. При этом выбор весьма ограничен – либо применить тактику умолчания, либо прибегнуть к идеологическому переводу. Отметим, что в качестве одного из упреков в адрес переводчика нередко звучит именно следующее: «замалчивание, искажение и превратное толкование женской перспективы» [Прунч, 2015, с. 354].
В подобной ситуации мы рекомендуем обратить внимание на этический аспект. Так, сегодня в немецкой академической среде теоретически существует правило, запрещающее употреблять общие формы социального артикля (нем. zwiegendernde Anredeformen ) в профессиональной сфере. Тем не менее при общении, предусматривающем гендерную вариативность, предлагается уточнить у партнера по коммуникации, как бы участник общения хотел, чтобы к нему обращались.
Таким образом, размывание гендерной идентичности, ситуация выбора стратегии перевода, необходимость владения приемами идеологического перевода ставит перед профессиональным сообществом «новые», уже многими забытые проблемы, напоминая тем самым о традициях в инновациях.
Заключение
Результаты анализа немецкоязычного медиадискурса с точки зрения современных теории и практики перевода свидетельствуют о том, что при трансляции тем «специальная военная операция» и «гендер» часто применяется прием переформулирования, то есть искажения первичного смысла, в чем мы видим политический мотив. Напряженная обстановка в мире создает условия для мультипликации идеологического перевода, что является новым вызовом для профессионального сообщества и требует от специалиста глубоких знаний в области культуры, истории и лингво-страноведения. Перевод становится средством трансляции ценностей различных политических и общественных систем. Решение поставленного более 10 лет назад Э. Прунчем вопроса to translate or not to translate (переводить или не переводить) [Прунч, 2015, с. 406] возлагается, как и прежде, на каждого конкретного переводчика. Именно от него зависит степень идеологичности перевода, а также мера интерпретации информации, возникающей в ходе работы с любым инокультурным текстом.
Список литературы Идеология как фактор перевода: традиции в инновациях
- Будаев Э. В., Чудинов А. П., 2019. Риторический анализ политической коммуникации в современной зарубежной лингвистике (2010-2018 годы) // Сибирский филологический журнал. №> 4. С. 187-196. ЕО: 10.17223/18137083/69/16
- Булыгина Е. Ю., Трипольская Т. А., 2020. Процессы идеологизации и деидеологизации в русском религиозном словаре // Сибирский филологический журнал. № 3. С. 204-215. Е01: 10.17223/18137083/72/16
- Волкова Т. А., Наливайко К. Ю., 2022. Перевод и адаптация научно-популярной статьи: эксперимент с разными коммуникативными заданиями // Язык и культура. № 58. С. 150-169. Е01: 10.17223/19996195/58/9
- Гарбовский Н. К., Костикова О. И., 2020. История перевода в истории цивилизации. М.: Моск. ун-т. 274 с.
- Ефлова М. Ю., Максимова О. А., Матвеева Е. А., 2021. Современные сценарии гендерных отношений молодежи // Казанский социально-гуманитарный вестник. №2 2 (49). С. 9-12. Е01: 10.26907/2079-5912
- Земцов И. Г., 2009. Советский язык – энциклопедия жизни. М.: Вече. 512 с. Иванов Е. Е., 2019. О рекуррентности афористических единиц в современном русском языке // Русистика. Т. 17, № 2. С. 157-170. Е01: 10.22363/2618-8163-2019-17-2-157-170
- Максимова О. Б., 2021. Гендерные роли и гендерные стереотипы как социокультурные категории: репрезентационный смысл // Мир науки. Социология, филология, культурология. Т. 12, №> 2. С. 1-12.
- Михайловская М. В., 2018. Устный перевод: идеологема как категория глобального вертикального контекста // Вестник Московского университета. Серия 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. №2 4. С. 167-175.
- Моргунова О. А., Морару Н. Ф., 2022. Дискурсы «ев-ропейскости» в практике предоставления убежища в постколониальном контексте // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. Т. 22, №2 4. С. 741754. Е01: 10.22363/2313-0660-2022-22-4-741-754
- Мочалова Н. Ю., 2021. Новый образ женской мен-тальности в глобализирующемся мире // Историческая наука и историческое образование в условиях глобальных трансформаций: материалы XXV Всерос. с междунар. участием ист.-пед. чтений (Екатеринбург, 23-26 марта 2021 г.). Екатеринбург: [б. и.]. С. 106-109. Е01: 10.26170/978-5-7186-1774-0_2021_25_16
- Мурдускина О. В., Аниськина Н. В., 2017. Реализация коммуникативно-функционального подхода при переводе текстов пресс-релизов // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. №9 3 (41). С. 129-133. Е01: 10.18323/2073-5073-2017-3-129-133
- Мэй У, Дубкова О. В., 2022. Перевод и интерпретация идеологем: опыт перевода базовых ценностей социализма с китайской спецификой на русский язык // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. № 58. С. 23-36. DOI: 10.47388/2072-3490/lunn2022-58-2-23-36
- Прунч Э., 2015. Пути развития западного переводо-ведения: От языковой асимметрии к политической: пер. с нем. М.: Р. Валент. 528 с.
- Рудницкая Н. Н., 2013. Перевод как объект воздействия политической идеологии // Балтийский гуманитарный журнал. № 1 (2). С. 25-28.
- Селиванова И. В., 2022. Идеологемы как ресурс речевого воздействия в публичном дискурсе испанской монархии // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. Т. 20, № 3. С. 51-63. DOI: 10.25205/18187935-2022-20-3-51-63
- Смирнова Н. С., 2021. Проблема инварианта перевода при идеологической адаптации текста // Homo loquens: язык и культура. Диалог культур в условиях открытого мира: сб. докл. и сообщений Междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 8 апреля 2021 г). Том Вып. 6. СПб.: Рус. христ. гуманит. акад. С. 174-183.
- Титкова О. И., 2014. Особенности формирования частной рекуррентности в маркетинговом дискурсе (на примере интернет-маркетинга) // Вестник Московского государственного лингвистического университета. № 20 (706). С. 136-145.
- Усачева А. Н., Махортова Т. Ю., Попова О. И., Новикова Т. Б., 2015. Скопос, интерпретация, ког-ниция: от мультивекторной теории перевода к эффективной практике // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. № 5 (29). С. 46-59. DOI: 10.15688/jvolsu2.2015.5.6
- Халас Э., 2021. Символы и общество: Интерпрета-тивная социология. Харьков: Гуманитарный центр. 296 с.
- Хорина Г. П., 2021. Идеологический компонент в современной культуре России // Знание. Понимание. Умение. № 4. С. 215-223. DOI: 10.17805/zpu.2021.4.18