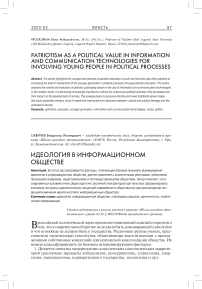Идеология в информационном обществе
Автор: Савичев В.Л.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Материалы конференции школы молодых этнополитологов
Статья в выпуске: 2 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются факторы, отличающие базовые принципы формирования идеологии в информационном обществе, дается сравнение с аналогичными факторами, объективно присущими аграрному, индустриальному и постиндустриальному обществам. Автор отмечает, что в современных условиях очень редко идет учет различий этих факторов при попытках сформулировать ключевые постулаты идеологических концепций современного общества или при рассмотрении тенденций изменения идентичностей в информационных обществах.
Идеология, информационное общество, платформа смыслов, идентичность, политическая коммуникация
Короткий адрес: https://sciup.org/170210340
IDR: 170210340 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-2-67-73
Текст научной статьи Идеология в информационном обществе
Статья подготовлена в рамках участия в проекте «Школа молодого этнополитолога» (грант № 24-2-006218 Фонда президентских грантов).
В российской политической науке преодолен навязанный ложный стереотип о том, что в современном обществе не должно быть доминирующей идеологии и что ее вообще не должно быть у государства. Различные группы ученых, представители политических институтов, общественные деятели выходят с предложениями собственных концепций идеологической консолидации общества. Их можно классифицировать по базовым детерминирующим факторам.
-
1. Делается попытка модернизации классических идеологических макротеорий (различные варианты либерализма, консерватизма, социализма, анархизма, национализма, корпоративного государства, экологизма и др.).
-
2. В качестве базовой идеи рассматриваются теории, которые не получили в свое время большой социальной поддержки, формулируются обоснования, почему ранее они были недостаточно популярны, а в современных условиях для них есть необходимые предпосылки, чтобы стать доминантами общественных настроений (евразийство, славянофильство, либертарианство и др.).
-
3. Предлагается синтез различных идеологических подходов как способ примирить интересы различных, иногда и противоположных по своим интересам социальных групп.
-
4. Идет поиск, а скорее искусственное конструирование «золотого века» в истории страны (или отдельных этноконфессиональных групп) с целью доказать, что мы проскочили развилку выбора идеальной модели общества или государства и если будет возвращение к модели, которую не реализовали или от которой необоснованно отказались, то это и позволит решить задачу объединения общества (монархизм, «белая идея», общинное устройство, язычество, примат конфессиональных догм, возрождение панславизма, пантюркизма и др.).
-
5. Идет активное обсуждение перспектив недавно появившихся концепций – трансгуманизма, «стейкхолдерского капитализма», «цифрового концлагеря».
Присутствуют и экстремистские, а также откровенно сектантские идеологические нарративы, но в данном случае мы не рассматриваем их отдельно и детально, поскольку они являются крайними радикальными вариантами представленных концепций политического управления и в сложившихся условиях развития политической системы России не в состоянии претендовать на то, чтобы занять доминирующие позиции в общественном сознании и в практике действий политических групп, имеющих доступ к ресурсам и статусам власти.
Что общего у всех этих предложений? Они ориентированы на поиск детер-минантных факторов консолидации общества, на обоснование общей, близкой к идеальной модели как жизни отдельного человека, так и деятельности социальных групп и институтов государства. Практически не заметны идеи отказа от государства (хотя они присущи некоторым группам, транслирующим информационную повестку евро-атлантического либерального проекта, но не в состоянии в современных российских условиях сформировать политические структуры, способные организовать популяризацию этих взглядов до уровня поддержки хотя бы 5% избирателей). Только в рамках обсуждения недавно появившихся концепций делается попытка обосновать их возможное появление с перспективами развития информационного общества, но без глубокого анализа особенностей этого нарождающегося типа социального взаимодействия. Традиция рассматривать модернизацию как эволюцию прежних моделей общества, а соответственно и идеологических основ социума остается доминирующей в научном дискурсе [Побережников 2006: 93-95].
В научной среде идет активная дискуссия о том, что считать информационным обществом, отличается ли оно от постиндустриального [Белл 1999: 656] и насколько этот тип общества представлен в современном мировом социуме.
По каким признакам информационного общества сегодня сложился научный консенсус?
-
1. Это общество с высокой ролью в нем информации и знаний.
-
2. Знания и технологии становятся главным фактором развития экономики и доминирующим фактором роста ВВП.
-
3. Появляется заметная социальная прослойка людей, занятых в IT -сфере и использующих платформенные модели организации коммуникаций в политической, социальной, экономической, культурной жизни.
-
4. Это общество функционирует в глобальном информационном пространстве и неотделимо от него, поэтому глобальное политическое, экономическое, культурное пространства также становятся необходимыми факторами его развития.
-
5. Цифровые платформы, информационные технологии становятся неотъемлемой частью политического управления обществом.
Дополняют эти характеристики такие составляющие, как динамичное развитие сфер образования, здравоохранения, транспорта, связи, креативных индустрий.
Чем эти факторы отличают информационное общество от ранее известных моделей [Тойнби 2001]? Резко снижается значимость физического труда, преодолевается дефицит ресурсов, необходимых для выживания, общий уровень доходов и качество жизни ориентируют человека на поиск индивидуальной траектории развития, среды деятельности человека являются сверхконкурентными, становится зыбкой граница между жизнью человека в виртуальном и реальном пространстве, идет постоянный переизбыток информации, в системе управления нарабатываются технологии прямого воздействия на индивида, минуя его включенность в иерархию социальных групп.
Ключевая особенность – роль знания (личные выводы и оценки ситуаций, предметов, субъектов и объектов, явлений на основании получаемой информации) и информации (существующий в природе поток реальных и придуманных фактов, оценок, символов, образов, формализованных и абстрактных данных). Теперь не внешние по отношению к человеку факторы определяют обладание властью, а внутренние. И задачи политического управления сводятся не только к отчуждению этих внешних ресурсов, но и к необходимости управлять сознанием индивида. Поскольку каждое индивидуальное сознание, как человеческое, так и созданное им искусственно (в перспективе), способно инициировать потоки информации, формировать и отстаивать собственную картину мира, используя возможности коммуникаций глобального информационного пространства, образуется сверхконкуренция индивидуальных восприятий и отношений к миру. Управлять таким обществом, где каждый имеет возможность стать субъектом информационного воздействия и создания новых технологий, стандартными методами политического влияния малоэффективно. Выхода только два – упрощение общества, насильственная стандартизация образов и логик построения индивидуальной картины мира или выработка адекватных для сверконкурентного социума систем политического управления с использованием цифровых технологий, искусственного интеллекта и многоканальных моделей коммуникаций.
Первый путь вполне изучен и понятен. Но он неизбежно ведет к деградации общества. В условиях политического монополизма это вполне приемлемое решение. При этом неизбежно будет сокращаться численность населения, чтобы гарантировать защиту монопольной системы от появления альтернативных центров развития, устраняться культурное многообразие. Неизбежно снижение удельного веса доходов большинства населения, монополизация деятельности по технологическому развитию. Власть будет стремиться унифицировать управляемые объекты до уровня рабского состояния. Для такой модели политического управления оптимальны роботы и искусственный интеллект. Личность человека для нее – излишняя проблема, на которую потенциально надо потратить больше ресурсов, чем можно изъять у него. В итоге полный переход к информационному обществу затянется на века, а может и вообще не состояться, а вместо него будет создан «цифровой конц- лагерь», где силовое принуждение станет главным фактором управления, а информационные технологии будут решать главную задачу – контроль над обществом.
Если же ставится задача выигрыша соревнования по переходу на шестой технологический уклад, отстаивания государственного суверенитета, сохранения цивилизационной идентичности, то придется решать задачи, которые ранее перед гуманитарной наукой и политическим менеджментом не стояли.
Информационное общество не занимает монопольное положение. Сам факт того, что человек окунается в избыточное предложение информации, что у него в базовых опциях относительно высокий уровень образования, без которого он не сможет быть производителем и потребителем цифровой информации, но при этом есть достаточные ресурсы для выбора собственной траектории индивидуального развития, предопределяет многообразие моделей поведения, выбора целевых и ценностных установок жизни, поиск ниши, в которой человек ощущает свою личную позицию в глобальном пространстве. А значит, найдутся позиции для сохранения социальных взаимодействий, присущих всем видам социумов, которые уже имеют практику своего существования. Они не смогут быть жизнеспособными в изоляции от глобальной информационной сети, но создавать для себя особый мир социальных взаимодействий, для которого глобальный будет внешним фактором, вполне в состоянии. Массовое общество будет разделяться на множество небольших социальных миров с собственным мироустройством, с высоким уровнем индивидуальных особенностей, с необходимостью постоянно искать ответ на давление глобализма во всех его проявлениях в целях сохранения своей индивидуальной модели жизни.
Для предыдущих видов общества мы можем выделить детерминирующий ресурс, предопределяющий возможность установления политического господства. Для аграрного – это контроль над землей, для индустриального – контроль над средствами материального производства, для постиндустриального – контроль над услугами, и прежде всего над универсальной услугой – финансовой. Но и в этих условиях мы видим разнообразие историй развития социально-политических и экономических систем. Капитализм не стал везде универсальным. Например, в США, Швеции, Японии, Индии и многих других странах мы видим отличающиеся модели социально-экономического взаимодействия, отношения к глобализации и модели модернизации [Многоликая глобализация 2004]. Да и различия в устройстве политических систем – объективно признанный факт. Да, сегодня, в условиях глобальной модели экономики фиатных денег до 80% прибыли концентрируется в руках транснациональных финансовых групп. И они бы очень хотели сохранить такой порядок вещей, обеспечивающий им и большие возможности для навязывания своей политической воли. Они также делают попытки притормозить технологический прогресс. Мы видим, насколько они заинтересованы в том, чтобы сделать бессубъектными государственные политические системы. Это именно они заинтересованы в разжигании масштабных конфликтов, поглощающих ресурсы государств и граждан, с задачей блокировать направление этих ресурсов на инвестиции в технологии, необходимые для перехода в информационное общество, вне подчинения сложившимся центрам глобализационных процессов. Не будучи в состоянии совсем остановить технологический прогресс, они стремятся монополизировать контроль над цифровыми платформами, информационными ресурсами и возможно- стями получения знаний, необходимых для дальнейшего развития индивидов, и в итоге навязать свою идеологию, сводящуюся к разделению человечества на господствующий класс, который сосредоточит у себя контроль над всеми факторами развития и перейдет на уровень информационного общества, и остальную массу населения, не способного заниматься ничем другим, кроме выживания. Все эти процессы убедительно, с фактами на руках описаны российскими исследователями [Четверикова 2019; 2021; Фурсов 2018; Артамонов 2025]. Хотя, по данным Высшей технической школы Цюриха, 147 корпораций и контролируют до 40% мирового ВВП, они не являются абсолютными монополистами, да и выстроить все политические элиты мира под единую модель современного капитализма по концепции великого обнуления [Аверьянов, Багдасарян, Делягин 2022] или какую-то иную тоже не получилось. Конкуренция за технологическое лидерство обострилась после того, как в КНР в 2008 г. сделали ставку на развитие внутреннего рынка, рост доходов населения и опережающее развитие сферы науки и образования, когда в 2014 г. Россия отказалась играть по правилам глобалистов и смиренно выполнять роль поставщика дешевых энергоресурсов, да и в целом реальных ресурсов экономики, когда Индия заявила о своих амбициях в глобальном распределении экономических рынков.
Прорыв в технологиях состоялся, и попытки в этих условиях тормозить технический прогресс [Бестужев-Лада 1998] способны лишь поставить под угрозу прибыль и политические возможности самих групп интересов, которые будут это пытаться делать. Конфликт суверенных государств против транснациональных корпораций, новых технологий против необеспеченных финансов, различных цивилизационных центров вступил в горячую военную фазу. В этих условиях наличие гиперзвука и квантовых компьютеров значит гораздо больше, чем рост доходов в условных финансовых единицах. В условиях войны целью экономики становится победа, а не максимизация прибыли.
Что сегодня обеспечивает превосходство в технологиях? Знания и доступ к информации, организация процессов, направленная на рост объемов реальных ресурсов, а не их сдерживание, создание собственной эффективной системы инвестирования. Все это возможно только при стимулировании творчества человека, а не его унификации.
Вот эти условия и определяют критерии параметров идеологии информационного общества.
-
1. В ней не может быть одной генеральной идеи, являющейся маркером идентичности для большинства граждан.
-
2. Необходимо признание права на развитие всех ранее существовавших моделей общества при их включении в новые технологические возможности, которые предоставляет переход к платформенным решениям.
-
3. Переход на многоканальные модели информационного взаимодействия, свойственные социальным сетям, а значит готовность к тому, что у идеологического концепта не будет одного центра генерации идей, а нужна будет система постоянной адаптации идеологического концепта к творчеству индивидов. Здесь важно сохранить возможность генерации ключевых идей внутри системы, не отдавая право формировать цели и ценности развития общества внешним центрам мысли и политического управления.
-
4. Идеология должна четко обосновывать полномочия и форматы взаимодействия различных идентичностей и иерархии политических институтов.
-
5. Идеология должна обосновать правила социальных взаимодействий,
-
6. Идеологический концепт в обязательном порядке содержит набор непротиворечивых аргументов, стимулирующих жизнеспособность общества (зачем человеку информационного общества дети и многопоколенная семья, почему он должен признавать регулирующую роль государства в обеспечении безопасности общества, почему важны обязанности политической системы государства по обеспечению условий для повышения качества жизни индивидов и социальных групп, в чем важность принадлежности к территориальной идентичности, какие базовые принципы социального взаимодействия обязательны к выполнению, и что является табу).
-
7. Идеология формирует платформу смыслов, в которой уживаются все созидательные модели сложившихся в обществе концептов политической идентичности, а также индивидуальных жизненных траекторий граждан в рамках единой российской общегражданской идентичности, при этом задача государства – не допускать перехода конкурентных моделей во враждебные.
-
8. Идеологическая модель должна учитывать возможность ее распространения на макрорегион, в котором Россия будет играть роль лидера и иметь адаптивный потенциал для включения сообществ дружественных государств в более тесные взаимодействия в рамках единого цивилизационного пространства.
-
9. Идеология информационного общества в России должна базироваться на ценностных установках и интересах, исторически сформированных в российском цивилизационном пространстве.
при которых объективно присутствующая сверхконкуренция не переходит в повышенный конфликтный потенциал общества.
Объективно говоря, все существующие идеологические концепты могут войти в идеологическую модель российского информационного общества как основу для идентичностей более низовых уровней. Это будет вполне понятно людям социальных групп, привыкшим к сложившимся системам ценностей и жизненных целеполаганий. Но сам общероссийский идеологический концепт предполагает несколько иную природу своих базовых постулатов. Ключевой момент в данном случае – не монолитность догматов, а гибкость мотивирующих постулатов, способная вобрать в себя все многообразие представлений граждан о возможностях творческого саморазвития в рамках информационного общества российской цивилизации.