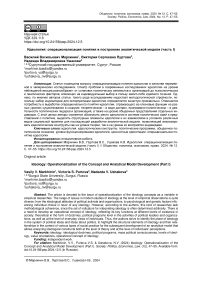Идеология: операционализация понятия и построение аналитической модели (часть I)
Автор: Мархинин Василий Васильевич, Пуртова Виктория Сергеевна, Ушакова Надежда Владимировна
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросу операционализации понятия идеологии в качестве переменной в эмпирических исследованиях. Спектр проблем в современных исследованиях идеологии на уровне наблюдений весьма разнообразен: от установок политических активистов и организаций до психологических и генетических факторов, влияющих на индивидуальный выбор в пользу какого-либо идейного течения. Однако, по мнению авторов статьи, такого рода исследованиям недостает методологической стройности, поскольку набор индикаторов для интерпретации идеологии определяется зачастую произвольно. Отмечается потребность в выработке операционального понятия идеологии, отражающего ее ключевые функции на разных уровнях существования в социуме: теоретическом - в виде доктрин, программно-политическом - в деятельности политических лидеров и организаций, а также на уровне обыденных представлений отдельных индивидов. С этой целью авторы стремятся обозначить место идеологии в системе политических идей и представлений о политике, выделить структурные элементы идеологии и их взаимосвязи в условиях различных видов социальной практики для последующей разработки аналитической модели, позволяющей анализировать идеологические конструкты как на уровне теории, так и на уровне их восприятия индивидами.
Идеология, идеологические конструкты, политические программы, обыденное политическое сознание, уровни функционирования идеологии, ценностные ориентации, операциональное понятие идеологии
Короткий адрес: https://sciup.org/149147024
IDR: 149147024 | УДК: 329.1/.6 | DOI: 10.24158/pep.2024.12.5
Текст научной статьи Идеология: операционализация понятия и построение аналитической модели (часть I)
Введение . Актуальность проблем, связанных с исследованием идеологии, не нуждается в обосновании. В пользу этого тезиса говорит систематический интерес исследовательского сообщества к соответствующему кругу тем. Наглядное представление о масштабах этого интереса способны дать результаты поисковых запросов на портале elibrary.ru. Согласно данным поисковой машины за последние десять лет, с 2014 по 2024 гг. в российском научном пространстве появились как минимум 4 072 публикации, в названии которых содержалось слово «идеология» (при поиске был установлен фильтр, позволявший учитывать только журнальные статьи по политологии, социологии и философии). Алгоритмы этого крупнейшего агрегатора научной информации, к сожалению, не позволяют отсекать публикации в «мусорных» издания х1, однако же, нет никаких сомнений в том, что даже без их учета массив современных исследований по соответствующим проблемам поистине необозрим.
Парадоксальным образом в ситуации, когда каждые несколько лет выходят буквально тысячи новых работ по соответствующему кругу тем, некоторые принципиальные проблемы исследования идеологий остаются недооцененными, а то и вовсе лишенными внимания со стороны исследователей. К их числу принадлежит целый ряд вопросов методологии эмпирического исследования идеологий. Настоящая статья представляет собой попытку если не окончательного разрешения, то, по крайней мере, постановки некоторых из них.
Интерес к определению методологических рамок теоретических исследований концепта идеологии (Малинова, 2003, 2023; Рубцов, 2023) наряду с вниманием к содержанию различных идеологических концепций, их генезису, особенностям интерпретаций у различных авторов и в различных традициях (Кара-Мурза, 2023), иначе говоря, интерес к теоретико-методологическим и историко-философским аспектам анализа идеологий явно преобладает над интересом к эмпирическому измерению различных идеологических феноменов. Тем не менее нельзя сказать, что исследование последних на уровне наблюдений является чем-то особенно редким.
Активно изучаются идеологические установки деятельности политических активистов и организаций, проблематика идеологических размежеваний, связь между идеологическими и иными мировоззренческими установками (Шилина, 2023; Галяпина, 2021; Gries, 2016; Elchardus, Spruyt, 2016; Tausanovitch, 2016). Значительное внимание уделяется учеными психологическим предпосылкам формирования индивидуальных идеологических предпочтений (Bakker, 2017; De Neve, 2015). Активно развивается исследование генетики и наследственности в формировании индивидуальных идеологических симпатий (Ksiazkiewicz et al., 2016; Smith et al., 2017; Beattie, 2017), изучаются биологические предпосылки приверженности различным идеологиям (Keene et al., 2017; Hatemi et al., 2019).
Одна из характерных особенностей этих и целого ряда других исследований состоит в неудовлетворительной операционализации понятия идеологии в качестве переменной. Оно получает, с одной стороны, весьма широкую трактовку: рассматривается учеными как синоним политических взглядов в самом широком смысле (между тем совершенно очевидно, что далеко не всякие оценочные представления о политике следует относить к разряду идеологий). С другой же стороны, понимание термина оказывается, напротив, чрезмерно ограниченным: идеология рассматривается исключительно как элемент индивидуального мировоззрения. Такой подход, то есть отождествление идеологии с индивидуальными оценками политической действительности, не позволяет делать предметом анализа идеологические концепции: обыденные представления о политике синкретичны, а идеологические доктрины обыкновенно отличаются стройностью, взгляды «простого человека», как правило, не становятся концептуальной основой для принятия политических решений, а идеологии – напротив, сплошь и рядом становятся. Массовое сознание является лишь одним из уровней, на котором может существовать идеология (Feldman, 2013: 591), причем необязательно этот уровень играет сколько-нибудь значительную роль в общественной жизн и2; более фундаментальные, базовые уровни находятся в сознании и деятельности элит и теоретиков. И знания об этих уровнях далеко не всегда могут быть извлечены из анкеты массового опроса или из лабораторных наблюдений.
Другая особенность сложившихся подходов удачно описана в одном из недавних исследований: «Многие теории в политической науке опираются в своем основании на понятие идеологии – будь то объяснения индивидуального поведения и предпочтений, правительственных отношений, или связи между ними. Как бы то ни было, выясняется, что идеологию трудно выявить и измерить, в значительной степени, по той причине, что ее невозможно наблюдать непосредственно: мы можем лишь исследовать индикаторы, такие, как ответы на вопросы анкет, пожертвования политическим силам и судебные решения» (Bond, Messing, 2015).
К этому наблюдению следует добавить, что индикаторы, о которых говорится выше, используются весьма своеобразно – без разработки понятия, эмпирическим референтом которого они должны быть. Проще говоря, у исследователя зачастую имеется некое интуитивное представление о том, что такое идеология вообще, и о том, чем одна идеологическая доктрина отличается от другой. Под это интуитивное и часто довольно смутное представление и подбираются индикаторы, относительно которых, впрочем, не всегда можно понять, на что именно они указывают.
Преодоление этой проблемы требует выработки операционального понятия идеологии, которое было бы релевантно по отношению и к обыденным представлениям, и к мировоззрению элит, и к положениям доктрин. Для этого необходим структурный и функциональный анализ феномена идеологии. Он должен решить несколько задач: зафиксировать соотношение идеологии и других представлений о политике; выявить структурные элементы идеологий и специфику их функционирования в условиях различных видов социальной практики; выявить пределы вариативности этих элементов и возможности количественного и качественного измерения каждого из них. Представленные далее рассуждения направлены на решение этих задач.
Идеология в системе политических идей . В методологическом плане для обнаружения того места, которое идеология занимает сред других представлений о политике чрезвычайно полезным является предпринятое Д. Юмом разграничение экзистенциальных суждений (утверждений о сущем) и суждений модальных (утверждений о должном): «Я заметил, что в каждой этической теории, с которой мне до сих пор приходилось встречаться, автор в течение некоторого времени рассуждает обычным образом, устанавливает существование Бога или излагает свои наблюдения относительно дел человеческих; и вдруг я, к своему удивлению, нахожу, что вместо обычной связки, употребляемой в предложениях, а именно “есть” или “не есть”, не встречаю ни одного предложения, в котором не было бы в качестве связки “должно” или “не должно”. Подмена эта происходит незаметно, но тем не менее она в высшей степени важна. Раз это “должно” или “не должно” выражает некоторое новое отношение или утверждение, последнее необходимо следует принять во внимание и объяснить, и в то же время должно быть указано основание того, что кажется совсем непонятным, а именно того, каким образом это новое отношение может быть дедукцией из других, совершенно отличных от него» (Юм, 1996: 510–511).
Основу идеологии, вне всякого сомнения, составляют утверждения модального характера: идеология не открывает новые факты, она предписывает некоторый образ действий. Создатели идеологий вполне могут использовать аргументацию, указывающую на факты политической жизни, но идеологические конструкции всегда являются в конечном итоге совокупностью императивов. По всей видимости, нет прямой связи между истинностью (ложностью) представлений о мире, содержащихся в идеологических конструкциях, и успехами (неудачами) в достижении политических целей. Достижения неолибералов в США и Европе едва ли были возможны благодаря тому, что их взгляды на рыночную экономику, на многопартийность или на права и свободы личности содержат некие неоспоримые истины; если бы это было так, мы не наблюдали бы ни тех успехов, которых политическая элита КНР достигла в последние десятилетия, ни того позорного краха, который потерпели рыночные реформы, а вместе с ними и политические карьеры российских «демократов» образца 1980–1990-х гг. Отнюдь не является секретом то, что в политике успех сплошь и рядом достигается с опорой на совершенно превратные представления о политической действительности.
Граница между модальными и экзистенциальными суждениями является и чертой, разделяющей идеологические и научные концепции.
Это, в общем-то, банальное утверждение зачастую получает упрощенную, да и попросту ложную трактовку. Поскольку-де идеология не дает никаких знаний о социальной действительности, она является средством обмана и самообмана, инструментом тиражирования ложных идей. Интерпретация идеологии как набора демагогических тезисов не выдерживает критики при сопоставлении с целым рядом общеизвестных фактов. Здесь мы укажем лишь на один из них: подлинный расцвет идеологий происходит в странах Европы, в Новое время, то есть, там и тогда, где и когда наблюдаются наиболее впечатляющие политические, экономические и научно-технические успехи. Вместо того, чтобы дезориентировать политические элиты европейских стран и навязать им ложные подходы к решению политических проблем, конкурирующие друг с другом идеологические концепции стали одним из факторов беспрецедентного цивилизационного успеха Европы.
Неотъемлемой частью нормального социального сознания являются ценностные представления (собственного говоря, водораздел между социально-психологической нормой и социопатией проходит по границе между способностью и неспособностью человека подчинять свои поступки системе ценностей). Показательным в этой связи является, между прочим, и тот факт, что даже такие критики морали, как Н. Макиавелли и Ф. Ницше, призывали к демонтажу конвенциональной морали, но не системы ценностей как таковой. На место моральных ценностей они предлагали поставить более конструктивные (с их точки зрения) приоритеты эстетического порядка: доблесть, отвагу, творческую мощь и т. п.
Идеология отвечает этому запросу политического сознания и является сферой рефлексии о политических ценностях. Из идеологической концепции нельзя извлечь знание о том, какие средства будут адекватны достижению той или иной политической цели; но такого рода концепции заметно облегчают целеполагание, выбор политического вектора, к которому будут прилагаться силы и средства. Примечательна в этой связи судьба теории (и программы) деидеологизации политики, выдвинутая рядом либеральных мыслителей середины ХХ в. Эта – вроде бы, довольно стройная и логичная – технократическая интерпретация современной политики оказалась совершенно невостребованной на практике. Вопреки прогнозам Д. Белла, М. Оукшота, Ф. Фукуямы и др., ничего похожего на отказ от идеологических ориентиров в политике последних шести десятилетий не наблюдаетс я1. Идеологии в современном мире продолжают выполнять те же функции, которые они имели в «классическую эпоху», – это функции, связанные с осмыслением политических идеалов.
Сделанные выше наблюдения позволяют ответить на вопрос о том, как соотносится идеология и другие средства выработки и осмысления идеалов – политико-философские теории и программ ы2.
Из истории хорошо известно, что политические программы вырабатываются и без целенаправленного конструирования идеологических концепций. Перикл, Сулла, князь Владимир Святославич, бессчетное множество других политиков ничего не писали о своих политических идеалах (а порой и вовсе не умели ни писать, ни читать), но более или менее успешно трансформировали современные им общества, реализовывали программы, рассчитанные на длительные периоды времени. Идеология, конечно же, не является универсальным средством выработки программ, но служит одним из эффективных инструментов их формулировки и дальнейшего воплощения.
Во-первых, это достигается за счет сужения горизонта выбора политических стратегий. Идеологически мотивированный политик отбрасывает значительную часть принципиально возможных целей своей деятельности и потенциально доступных средств. Тем самым он открывает для себя возможность более оперативных действий и глубокого осмысления отобранных им вариантов. Абстрактно говоря, такой образ действий смотрится менее выгодно в сравнении с предлагаемой Н. Макиавелли «неразборчивостью», готовностью сделать все, что угодно, лишь бы это вело к искомой цели. В действительности же такие подходы доступны весьма немногим. Макиавеллиевский стиль в политике требует и наличия высокоразвитого «макиавеллиевского интеллекта», которым, к счастью для человечества, обладает не слишком большой процент индивидов.
Во-вторых, идеологическая индоктринация дает весьма широкие возможности мобилизации на политические действия. Индоктринированный человек более доступен для манипуляции со стороны своих духовных лидеров и сильнее закрыт для манипулятивных воздействий других акторов политики. Неверно, впрочем, было бы интерпретировать этот тезис в духе некоторых просвещенческих концепций происхождения религии, которую правители – сами ни во что не верующие – будто бы изобретают для того, чтобы ловчее дурачить подвластный народ. Индок-тринации подлежат не только и не столько подвластные люди, сколько сами политические элиты и их лидеры; ни во что не верующему политику будет чрезвычайно сложно скрывать свой цинизм от тех, кого он желает сделать послушными адептами каких-то идей. Образно говоря, в качестве компенсации за «самообман» (а на самом деле – в награду за способность к ценностному мышлению) политик получает дополнительные возможности в сфере политической тактики.
Более сложными являются взаимоотношения идеологии и философии. Несколько упрощая эту проблему, можно утверждать следующее:
Идеологическая и философская мысль в чем-то схожи: та и другая вырабатывают систематизированные, теоретически стройные представления о ценностях3, та и другая в целом находятся в области рационального мышления. Однако же их стилистика (да и социальные функции) разнится. Идеология утверждает некоторые ценностные постулаты; философия ставит их под сомнение. Идеология является инструментом консолидации социальных сил, средством укрепления духовных основ их существования; философия очень часто разрушает эти основы и освобождает индивида от подчинения общностям, в которые он входит. Исследуя историю идей, границу между политической философией и идеологией бывает сложно провести, но она тем не менее есть и находится в только что обозначенной области. Философ способен мыслить догматически, но идеолог не подвергает критике идеи, адептом которых он является (в противном случае он перестает быть идеологом). Философ может обосновывать духовную несамостоятельность индивида; но идеолог не способен освободить сторонника своих взглядов от приверженности им, от партийной дисциплины, от преданности лидеру и т. п.; его социальные задачи совершенно иные.
Ключевые функции идеологии связаны с выработкой ценностных ориентиров политического действия, мобилизацией и консолидацией вовлеченных в политику индивидов. Идеологии обеспечивают систематизацию представлений об этих ориентирах на рациональной, теоретической основе. Естественно, спектр задач, в решении которых может быть задействована та или иная идеологическая концепция гораздо шире, но именно эти функции являются базовыми для любых идеологических конструкций.
На различных уровнях социума эти функции реализуются неодинаково. Особенно важно в этой связи учитывать особенности существования идеологий в среде интеллектуальных и политических элит и на уровне массового сознания, в мировоззрении «простых людей», индивидов, не вовлеченных в профессиональную политическую и интеллектуальную деятельность.
Проблема соотношения идеологий в качестве элемента массового сознания и в качестве теоретического конструкта в чем-то подобна известной дилемме «яйца и курицы». Какой уровень бытования идеологий первичен? Возникают ли они в качестве продукта деятельности интеллектуалов и профессиональных политиков, которые затем этот продукт «несут в массы», распространяют в своей пропаганде, или же политики и мыслители улавливают настроения различных социальных страт и затем придают им обобщенную, теоретическую форму?
Разрешение этой дилеммы выглядит, по нашему мнению, следующим образом: идеологии как таковые возникают в результате более или менее целенаправленных усилий профессиональных политиков и связанных с ними интеллектуалов, но создаются они не в вакууме, а в определенном социальном контексте, частью которого являются и общественные настроения. Нельзя не согласиться с известным наблюдением В.И. Ленина: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» (Ленин, 1968: 102).
У мыслителей и тем более у политиков имеются представления об аудитории, которой они адресуют свои идеи; сколь бы самостоятельными не был процесс их интеллектуального творчества, они волей-неволей должны пытаться войти в резонанс с настроениями тех, кого они рассматривают как своих возможных последователей. Идеологий, возникших без социального заказа, не бывает, но этот «заказ» не следует понимать слишком прямолинейно. Идеолог не только идет в русле запросов тех или иных социальных общностей, но и стремится сформировать их сам.
На заре парламентаризма его теоретики, такие как Дж. Мильтон и А. Сидней, видели членов парламента в роли своего рода ретрансляторов народной воли, чаяний избирателей; на практическую невозможность такого порядка позднее указывал в своей критике парламентского правления Ж.-Ж. Руссо. Эти превратные представления о парламентаризме были разрушены Э. Бёрком: политик не может пренебрегать надеждами граждан, но он вовсе не обязан руководствоваться теми же взглядами на общее благо, которых придерживаются его сторонники. Напротив, он, обладатель более глубоких познаний о политической действительности, должен самостоятельно выявлять и подлинные интересы народа, и способы их реализации.
В области идеологического мышления дело обстоит ровно таким же образом: политик не может игнорировать массовое сознание своих последователей, но он вовсе не обязан воспроизводить его содержание в своих рассуждениях. В массовом сознании самом по себе, до того, как его носители не будут индоктринированы, присутствуют те или иные представления (убеждения, знания, верования) о политике, но нет идеологии. Курица в данном случае предшествует яйцу.
Мыслитель, формулирующий идеологические концепции, может быть практикующим политиком, или кабинетным интеллектуалом, но, как правило, его теории будут так или иначе трансформироваться в процессе их восприятия более широким кругом политических деятелей, при приложении к политическим задачам «здесь и сейчас». Идеология в том виде, как она существует в рассуждениях теоретиков и в практике (и взглядах) их последователей – отнюдь не одно и то же. В этой связи можно вспомнить хотя бы свидетельства Ф. Энгельса о той досаде, с которой К. Маркс воспринимал взгляды своих французских сторонников: «Ясно одно, что сам я не марксист»1. Политические деятели, вдохновленные некоторой доктриной, становятся своего рода ее соавторами; провести строгую границу между ее «исходным» вариантом и воплощением в политической практике бывает непросто хотя бы в силу того, что идеологии редко существуют в виде некоторого неизменного комплекса идей2, а роли «теоретиков» и «практиков» часто совмещаются. Тем не менее эта граница имеется. Для политика, как правило, реализация текущих задач важнее, чем последовательность в приверженности неким обобщенным идеалам: практические задачи диктуются объективной реальностью политического процесса, а представления об идеалах вполне могут быть адаптированы к соответствующей ситуации. Приоритеты идеолога противоположны.
То, что может выглядеть как идеологическая непоследовательность политика, в действительности не всегда является таковой, очень часто мнимая непоследовательность есть результат применения к теоретическим конструкциям пресловутого «искусства возможного». Собственно говоря, оппортунизм, готовность меняться сообразно требованиям момента, является естественной и нормальной формой существования идеологий в пространстве политических программ и практик. Напротив, «верность заветам» в политике является вещью сравнительно редкой, и за нее политикам часто приходится платить дорогую цену. Верность идеологемам божественной природы монархии стоила Карлу X престола, а Карлу I – и престола, и головы; излишнее упорство большевиков в попытках ликвидировать товарно-денежные отношения и перейти к прямому распределению материальных благ, несомненно, привело бы к крушению советской власти, если бы В. Ленин вопреки ортодоксии не инициировал переход к НЭПу. В среде интеллектуальной элиты идеология существует в более стройном, последовательном виде; в среде партийных лидеров и активистов она неизбежно утрачивает первоначальную «чистоту», включает в себя всевозможные заимствованные и изобретенные ad hoc элементы. Для разграничения этих двух уровней существования идеологии важно учитывать и еще одно обстоятельство: политик не обязан быть глубоко индоктрини-рованным приверженцем какого-то учения. В принципе, он может обходиться вовсе без идеологии, или использовать ее, так сказать, по-макиавеллевски, в чисто манипулятивных целях, или понимать (и принимать) положения той или иной теории в ограниченных масштабах. В любом случае восприятие идеологии политическим классом приводит к созданию самостоятельных культурных феноменов, которые являются чем-то вроде несовершенных копий идеологических конструкций более обобщенного теоретического характера.
Идеология и обыденное политическое сознание . Следующий уровень существования идеологий локализуется в массовом сознании. Анализ идеологических представлений «простого человека» является одним из наиболее популярных направлений в исследованиях идеологии. По нашему мнению, применительно к таким массовым группам, как социальные страты, возрастные когорты, этнокультурные общности и т. п. об идеологиях следует говорить только в очень условном смысле, используя термин «идеология» практически как метафору, обозначающую совершенно особое явление.
Ни одна из таких групп не является политическим субъектом, актором, вырабатывающим политические стратегии, решения, обладающим организационно-управленческой структурой. Это, в свою очередь, означает, что ни одна из тех функций идеологии, о которых говорилось выше, не является для них актуальной. Разумеется, идеология может становиться (и часто становится) элементом индивидуального мировоззрения, но в общем случае этот элемент является совершенно не обязательным. Носитель обыденного сознания в современных обществах обладает политическими взглядами, которые могут быть близки тем или иным идеологиям, но глубокая индоктринация «простого человека» достигается сравнительно редко, в тех случаях, когда индивид оказывается где-то на периферии политического класса. Адептом идеологии может быть член политической партии или движения, активный сторонник политического лидера и т. д. За пределами этого круга людей (который обычно является меньшинством) стройные и специализированные системы политических представлений возникают редко. Образно говоря, политические убеждения и идеология соотносятся примерно так же, как религия и теология. Верующий может строить свою жизнь в соответствии с требованиями своей веры, может признавать авторитет духовных лидеров (хотя порой делает то и другое далеко не безоговорочно), но в тонкостях догматики он чаще всего разбирается не особенно сильно1.
Сопоставление с идеологическими концепциями является полезным при исследовании массовых политических представлений, но в основном в чисто инструментальном смысле. Исследователю бывает необходимо каким-то образом типологизировать подобные представления и делать это через соотнесение с некоторым набором известных доктрин очень удобно. Однако же при этом не следует упускать из виду очевидный факт: массовое сознание – в противоположность идеологии – синкретично, способно совмещать такие идеи, которые никак не могут быть элементами одной и той же теории. Установки массового сознания (как, скажем, и партийные программы) могут быть созвучны той или иной идеологии; но партийная программа может строиться на ее основе, а массовое сознание способно лишь воспринимать какие-то ее элементы.
В пользу того, что содержание обыденного сознания лишь косвенным образом связано с собственно идеологиями, говорит, между прочим, и широкое распространение исследовательской стратегии, увязывающей индивидуальные идеологические симпатии с особенностями структуры личности. Действительно, индивидуальный выбор в пользу согласия с теми или иными идеологическими установками успешно объясняется при помощи концепции пятифакторной модели личности (Bakker, 2017; Haidt et al., 2009) и в некоторых случаях коррелирует с индивидуальными особенностями генетики (Ksiazkiewicz et al., 2016; Smith et al., 2017; Beattie, 2017). Но если соответствующие наблюдения верны – а серьезных оснований сомневаться в их корректности нет – выходит, что идеологические предпочтения в какой-то степени заданы биологическими обстоятельствами и особенностями социализации, которые индивид не выбирает и не творит. Но идеологии, известные нам из текстов, созданных мыслителями и партийными лидерами, формируются совершенно иначе, а вариативность содержания идеологий превосходит вариативность психотипов. Исследуя индивидуальное обыденное сознание, мы имеем дело не непосредственно с идеологиями, а, скорее, с ценностным мировоззрением, которое может быть истолковано в категориях политической идеологии.
Сделанные выше выводы описывают, так сказать, принципиальную схему разграничения идеологического сознания политического класса и обыденных политических представлений. Реальная картина несколько сложнее. Одна из специфических черт общественного сознания состоит в заметной степени его политизированности. Современный человек получает определенный набор знаний о политике еще на ранних этапах социализации, политические акторы на протяжении всей его жизни стремятся заручиться его симпатиями и поддержкой. Такое положение дел возникло в ходе серии волн демократизации XIX–XX вв., каждая из которых усиливала масштабы вовлечения рядовых граждан в политический процесс. Сегодня довольно трудно, во-первых, встретить человека, совершенно не знакомого с различными идеологиями, по крайней мере, на уровне лозунгов. Во-вторых, четкая граница между политическим классом и «массами» в условиях индустриального и постиндустриального мира существовать не может. Само возникновение идеологических доктрин Нового времени стало возможным в силу того, что у них появилась массовая аудитория, состоящая не только из профессиональных политиков, но и из «простых людей». В этом смысле постановка вопроса об отношении к той или иной идеологии на уровне обыденного сознания вполне оправдана. Тем не менее не следует забывать о том, что на каждом из уровней, о которых говорилось выше (идеи теоретиков, их реализация в партийных программах и восприятие в массовом сознании), идеология функционирует неодинаково. И если респондент, заполняющий анкету, соглашается, например, с тезисом о том, что граждане обязаны уважать представителей власти, это еще не означает, что он непременно положительно воспримет сочинения А.Г. Дугина, или проголосует за консервативную партию. Схожим образом высокий уровень признания такой ценности, как социальная справедливость, в современной России не особенно помогает левым партиям, придерживающимся соответствующей идеологической линии.
Таким образом, очевидно, что идеология как продукт целенаправленного интеллектуального творчества и идеология как феномен массового сознания – качественно различные явления. В первом случае мы имеем дело с теоретическим конструктом, результатом целенаправленного упорядочения представлений о политической реальности и о желаемых результатах ее трансформации. Во втором – с более или менее стихийно возникающим синтезом психологических установок и мировоззренческих представлений. Элементы, созвучные той или иной идеологии привносятся в обыденное сознание индивида не столько в ходе индоктринации, сколько в ходе социализации; зачастую такие индивидуальные «идеологические предпочтения» слабо соотносятся с предпочтениями политическими. Следовательно, необходимо выработать такой подход к анализу идеологических феноменов, который позволил бы анализировать идеологические конструкты как на уровне теории, так и на уровне их восприятия в обществе в целом и применительно к различным социальным стратам.
Список литературы Идеология: операционализация понятия и построение аналитической модели (часть I)
- Галяпина В.Н. Взаимосвязь ценностей, идентичностей и установки на поддержание мультикультурной идеологии у русских в Краснодарском крае: межпоколенный анализ // Психологические исследования. 2021. Т. 14, № 78. С. 1-28. https://doi.org/10.54359/ps.v14i78.128.
- Кара-Мурза А.А. Между философской критикой и идеологической апологетикой (об уровнях бытования человеческих идей) // Вопросы философии. 2023. № 2. С. 10-14. https://doi:10.21146/0042-8744-2023-2-10-14.
- Ленин В.И. Партийная организация и партийная литература // Полное собрание сочинений: в 45 т. М., 1968. Т. 12. С. 99-105.
- Малинова О.Ю. Концепт идеологии в современных политических исследованиях // Политическая наука. 2003. № 4. С. 8-30.
- Малинова О.Ю. О методологических трудностях работы с понятием «идеология» // Вопросы философии. 2023. № 2. С. 5-9. https://10.2H46/0042-8744-2023-2-5-9.
- Рубцов А.И. Идеология в России времени постмодерна и спецоперации // Политическая концептология: журнал ме-тадисциплинарных исследований. 2023. № 1. С. 95-99. https://doi:10.18522/2949-0707.2023.1.9599.
- Шилина А.Н. Аффект или идеология: влияние политической поляризации на восприятие интернет-троллинга // Политическая наука. 2023. № 3. С. 230-251 https://doi.org/10.31249/poln/2023.03.11.
- Юм Д. Трактат о человеческой природе, или попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам // Сочинения: в 2 т. М. 1996. Т. 1. 733 с.
- Bakker B.N. Personality Traits, Income, and Economic Ideology // Political Psychology. 2017. Vol. 38, iss. 6. P. 1025-1041. https://doi.org/10.1017/gov.2014.27.
- Beattie P. The "Chicken-and-Egg" Development of Political Opinions: The Roles of Genes, Social Status, Ideology, and Information // Politics and the Life Sciences. 2017. Vol. 36, iss. 1. P. 1-13. https://doi.org/10.1017/pls.2017.1.
- Bond R., Messing S. Quantifying Social Media's Political Space: Estimating ideology from Publicly Revealed Preferences on Face-book // The American Political Science Review. 2015. Vol. 109, iss. 1. P. 62-78. https://doi.org/10.1017/s0003055414000525.
- De Neve J.-E. Personality, Childhood Experience, and Political Ideology // Political Psychology. 2015. Vol. 36, iss. 1. P. 55-73. https://doi.org/10.1111/pops.12075.
- Elchardus M., Spruyt B. Populism, Persistent Republicanism and Declinism: An Empirical Analysis of Populism as a Thin Ideology // Government and Opposition. 2016. Vol. 51, iss. 1. P. 111-133. https://doi.org/10.1017/gov.2014.27.
- Feldman S. Political Ideology // The Oxford Handbook of Political Psychology. N. Y., 2013. P. 591-627. https://doi.org/10.1093/ox-fordhb/9780199760107.013.0019.
- Gries P.H. How Ideology Divides American Liberals and Conservatives over Israel // Political Science Quarterly. 2016. Vol. 130, iss. 1. P. 51-78. https://doi.org/10.1002/polq.12288.
- Haidt J., Graham J., Joseph C. Above and Below Left-Right: Ideological Narratives and Moral Foundations // Psychological Inquiry. 2009. № 20. P. 110-119. https://doi.org/10.1080/10478400903028573.
- Hatemi P.K., Crabtree C., Smith K.B. Ideology Justifies Morality: Political Beliefs Predict Moral Foundations // American Journal of Political Science. 2019. Vol. 63, iss. 4. P. 788-806. https://doi.org/10.1111/ajps.12448.
- Keene J.R., Shoenberger H., Berke C.K., Bolls P.D. The Biological Roots of Political EXtremism: Negativity Bias, Political Ideology, and Preferences for Political News // Politics and the Life Sciences. 2017. Vol. 36, iss. 2. P. 37-48. https://doi.org/10.1017/pls.2017.16.
- Ksiazkiewicz A., Ludeke S., Krueger R. The Role of Cognitive Style in the Link Between Genes and Political Ideology // Political Psychology. 2016. Vol. 37, iss. 6. P. 761-776. https://doi.org/10.1111/pops.12318.
- Smith K.B., Alford J.R., Hibbing J.R., Martin N.G., Hatemi P.K. Intuitive Ethics and Political Orientations: Testing Moral Foundations as a Theory of Political Ideology // American Journal of Political Science. 2017. Vol. 61, iss. 2. P. 424-437. https://doi.org/10.1111/ajps.12255.
- Tausanovitch C. Income, Ideology, and Representation // RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences. 2016. Vol. 2, iss. 7. P. 33-50. https://doi.org/10.7758/rsf.2016.2.7.03.