Игорь Кон: "От истории ничего утаить нельзя" из электронной переписки с И.С. Коном. Часть I. 2005-2006 гг
Автор: Докторов Борис Зусманович
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Современная история российской социологии
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья является введением в описание и анализ электронной переписки автора с И.С. Коном, состоявшейся в 2005-2011 гг. Кон относится к узкой группе социологов, стоявших у истоков советской социологии. Многие годы Кон успешно работал в разных направлениях социологии, одновременно он является признанным специалистом в истории российской и западной социологии. Все это: 1) делает Кона уникальным экспертом в области изучения всего периода развития отечественной социологии и 2) определяет историко-социологическую и методологическую ценность его писем. Обратим внимание и на тот факт, что изучение переписки социологов - тема мало изученная, но наблюдается тенденция повышения внимания к ней. Общее число писем - около 200. Приводятся тексты 39 писем за 2005-2006 гг. Кратко рассматривается история возникновения переписки и ее содержание.
Переписка, архив переписки, борис докторов, игорь кон, борис грушин, владимир ядов, владимир шляпентох, социология, история российской социологии
Короткий адрес: https://sciup.org/142223996
IDR: 142223996 | DOI: 10.33491/telescope2019.201
Текст научной статьи Игорь Кон: "От истории ничего утаить нельзя" из электронной переписки с И.С. Коном. Часть I. 2005-2006 гг
Борис Докторов
Многие годы редакция «Телескопа» поздравляла Владимира Александровича Ядова (25 апреля 1929 — 1 июля 2015) с днем рождения. В этом году мы поздравляли бы его с 90-летием. Уже почти четыре года Владимира Александровича нет с нами, но память о нем, сделанном им жива, и будет жить с нами всегда.
В.А. Ядов всегда интересовался делами журнала, поддерживал нас, передавал нам некоторые свои научные статьи и мемуарные зарисовки. Именно у нас, в далеком 2005 году в №№ 3, 4 было опубликовано его самое большое, обстоятельное биографическое интервью: «...Надо по возможности влиять на движение социальных планет...».
И, безусловно, наша читательская аудитория — са- ма ядовская. В Петербурге — самая высокая плотность социологов, в разное время воспитанных на лекциях и книгах В.А. Ядова, делавшая под его руководством свои кандидатские исследования и писавшая при обсуждении с ним свои докторские диссертации. Здесь продолжают работать его коллеги по академическим социологическим институциям.
Все это мы бесконечно ценим и постараемся и далее следовать «ядовскому курсу».
Жизнь подарила мне множество встреч, дружеских отношений, форм сотрудничества с людьми, которые внесли значимый вклад в науку и культуру российского общества. Игорь Семенович Кон (1928-2011), безусловно, одна из ярчайших фигур в советском / российском обществоведении и в процессе укрепления в современной России гражданских, гуманистических ценностей и норм поведения.
Переписка с Игорем Семеновичем Коном стала для меня не только школой историко-социологических поисков, не только источником фактов, неожиданных реминисценций о становлении и развитии отечественной социологии, но и пятилетней беседой с глубоко интеллигентной личностью, с человеком, десятилетиями погруженным в науку и по-настоящему переживавшим драмы общества и драмы отдельных людей. По-моему, никто другой из отечественных социологов не подвергался столь жесткой критике со стороны ряда ключевых в стране институтов и организаций и никто кроме него не получал такое огромное количество благодарных слез и светлых улыбок от тех, кому он помог в жизни, а в некоторых случаях — спас жизнь.
Даже легкое прикосновение к письмам И.С. Кона показывает, как щедро он дарил мне самое ценное, чем он обладал: время и память. Времени у него было мало, он стремился сохранить его для работы. Память его была бесконечной, но я знаю, насколько сложно, иногда больно залезать в прошлое и находить в себе силы рассказать о нем. Замечу, в то время, когда я «пы-
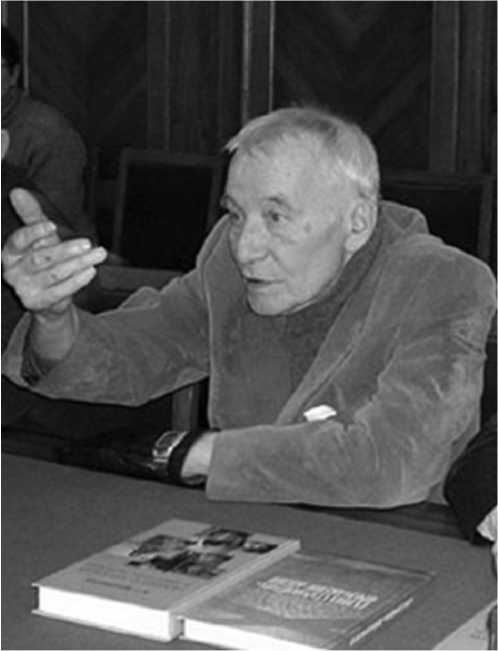
тал» Кона, он работал над мемуарами «80 лет одиночества» и не мог в полной мере участвовать в моих биографических интервью с российскими социологами.
Задача ближайших месяцев — упорядочить и прокомментировать нашу переписку, начавшуюся весной 2005 года и оборвавшуюся 5 марта 2011 года, менее чем за два месяца до смерти И.С. Кона.
Самое «старое» письмо моего архива переписки с Коном датировано 28 апрелем 2005 года. Но из его первых предложений: «Игорь Семенович, мой, скажем, биографо-исторический проект развивается. Опубликовано интервью с Фирсовым (я его Вам высылал?)...» следует, что это письмо не было первым. Интервью с Б. М. Фирсовым было опубликовано в журнале «Телескоп» в первой половине февраля 2005 года. Таким образом, скорее всего наш обмен мэйлами с Коном мог начаться и в январе 2005 года. Но не раньше конца 2004 года.
К сожалению, далеко не все письма сохранились. В 2005 году постепенно началась меняться предметная направленность моего историко-социологического исследования. В предыдущие почти четыре года я в полной мере был сфокусирован на изучении становления и развития технологии выборочных опросов общественного мнения в Америке. Но летом 2004 года была написана статья о жизни и творчестве Б. А. Грушина, и я стал задумываться об изучении истории российской социологии. Почему у меня возникла необходимость консультироваться с Коном, деталей не помню, но скорее всего, к этому меня подталкивал В.А. Ядов.
В уже разобранных около 200 письмах (порядка 4х листов), примерно половина из которых написана Коном, содержится ценнейшая, уникальная информация об истории нашей социологии, о людях, стоявших у ее истоков, о включенности Игоря Семеновича в дело, которому он служил многие десятилетия.
И еще, в них — методология изучения истории нашей социологии, сплав опыта Кона-социолога и Кона-историка социологии: всемирной и российской. Причем, это не схемы — «делай так» и, тем более, — не предостережение — «так не делай», это его конкретные рассуждения по поводу моих конкретных вопросов. Ничего ценнее не бывает.
К настоящему времени российскими исследователями сделано немало в области изучения прошлого нашей науки: дореволюционной, ранней советской и современной. Не вдаваясь в детали и не стремясь назвать имена всех разработчиков этого исследовательского направления, назову тех ученых, которые, в моем понимании, внесли в познание нашей истории наиболее заметный вклад: Г.С. Батыгин, А. О. Бороноев, И.А. Голосенко, Г.Е. Зборовский, В.М. Зверев, А.Г. Здраво-мыслов, Л.А. Козлова, В.В. Козловский, Г.В. Осипов, Ж.Т. Тощенко, Б. М. Фирсов, Б. А. Чагин, Ф. Э. Шере-ги. Но при этом, мне не известны книги или обстоятельные статьи с анализом методологии изучения истории российской социологии, прежде всего — возникшей в условиях «политической оттепели». Рассматривая переписку с Коном, я вижу в ней суждения, которые могут служить основой для постановки и обсуждения соответствующего комплекса историко-методологических проблем. Будучи историком по базовому образованию, прекрасно зная развитие многих предметных областей западной социологии, имея опыт подготовки аспирантов по истории социологии, Кон глубоко понимал сложности изучения исторического процесса становления науки. В частности, — он обращал внимание на «человеческий фактор».
Ниже приведен фрагмент архива переписки: с— 28 апреля 2005 года по 29 декабря 2006 года. Это — 39 писем, 19 из которых принадлежат И.С.Кону.
Заголовком этого текста служит фрагмент письма Игоря Семеновича Кона Андрею Николаевичу Алексееву (и мне в копии): «Уже через несколько лет, когда людей моего поколения не будет в живых, об этом можно будет писать открыто. От истории ничего утаить нельзя» (15 декабря 2009 г.).
В чем ценность приведенных слов Кона? В моем понимании, это — своеобразный манифест поведения историка отечественной социологии, в них одновременно и призыв, импульс к поиску, и напоминание о моральных границах, принципах того вида, формата историко-научных изысканий, которого я придерживаюсь. Его специфика, прежде всего, заключается в таком рассмотрении процесса развития науки, при котором история не сводится к «самопроизвольным» актам возникновения и смены теорий, методологических построений и методов. Здесь в основе всех построений является признание первичности личности творца, исследователя, он — главная фигура динамики науки. Именно ученые воспринимают вызовы времени и понимают внутренние механизмы науки, и они ищут ответы на эти вызовы. И в этом случае биография, жизненный путь исследователя становится не просто иллюстрацией, приложением к его фотографии. Анализ биографии становится дорогой к пониманию историком профессиональной деятельности ученого как индивида, личности, представителя определенного поколения исследователей и определенной научной среды, школы.
Словам Кона: «...через несколько лет, когда людей моего поколения не будет в живых, об этом можно будет писать открыто» без малого десять лет, к сожалению, уже нет ни его, ни многих из его поколения. Точнее сказать, остались в живых лишь несколько человек. Но все равно, о многих и о многом и сейчас писать очень сложно.
Наверно, в моральном отношении проще будет историкам будущих поколений, тем, кто не видел, не знает лично, не помнит глаз и голосов пионеров нашей социологии. Однако у них будут иные проблемы. Они не смогут осязать, чувствовать атмосферу нашей жизни.
Мы никогда не обсуждали с Коном, в какой мере я могу использовать материалы нашей переписки. Но, во-первых, я начал это делать еще при его жизни, и он знал об этом. Во-вторых, как историк социологии он понимал, что я не смогу не обращаться к его воспоминаниям, словам при анализе истории нашей социологии. Ведь это и было целью нашего общения.
Замечу, монография И.С.Кона «Позитивизм в социологии» (1964) и выпущенный под его руководством коллективный труд «История буржуазной социологии XIX — начала XX века» (1979) стали первыми советскими учебниками по истории социологии. Он был инициатором создания и первым президентом, а затем вице-президентом (1970-1982) Исследовательского комитета по истории социологии Международной социологической ассоциации.
2 мая 2010 года я получил от В.А. Ядова список его работ для переиздания с сопровождением: «Решил отправить тебе на случай, когда сыграю в ящик»1. Через три года (14 февраля 2013 года) пришел его психологи- ческий автопортрет, выполненный в манере «мягкого кубизма» с вкраплениями сюрреализма. Письмо начиналось словами: «Дорогой Боря, решил набросать эти заметки в твой архив, прекрасно понимая, что ты непременно опубликуешь мои саморефлексии в своих текстах биографий наших коллег по цеху, не исключаю, на другой день после похорон бренных останков В. Я.» — и кончается так: «Вот, что мне пришло в голову, и что я тебе написал сегодня поутру московского времени как раз до обеда»2.
Ничего подобного мне Кон не высылал, думаю, что и не мог выслать. Связываю это с менее интимным, чем с Ядовым, характером наших отношений, с темпераментом Игоря Семеновича и его трактовкой факта смерти. Когда-то, наверное, в период активной разработки советскими социологами категории «образ жизни», мы случайно встретились с Коном в Публичной библиотеке, и на его вопрос, чем мы занимаемся в Институте социально-экономических проблем АН СССР, я ответил, что Дирекция настойчиво подвигает нас к изучению образа жизни. Он сказал, что никогда не работал бы в этом направлении, но образ смерти его интересует. А в своем завещании Кон просил кремировать его тело и развеять прах.
Электронная переписка — особый, в начале 2000-х годов еще мало освоенный российскими социологами тип общения. Оно разительно отличается от многовекового обмена письмами, писавшимися от руки и пересылавшихся обычной почтой. Электронная коммуникация значительно динамичнее, рефлексивнее, менее требовательна к стилистике, чем «традиционная», во многих случаях — и это видно в приводимых ниже текстах — она близка к устной речи. Особенно это заметно, когда корреспонденты обмениваются посланиями в реальном времени. В нашем обмене письмами с Коном множество примеров подобного типа. В некоторые дни, а точнее — за несколько часов мы иногда обменивались четырьмя-пятью и более «емелями». Неповторимо...
Но я всегда помнил его слова в конце обстоятельного и трудного письма от 10 января 2007 г.: «P.S, Вот, занялся с утра неделом и потерял рабочий день». Помнил, но продолжал спрашивать, а он — терпеливо отвечал.
Летом прошлого года в Москве увидела свет моя книга «Нескончаемые беседы с классиками и современниками. Опыт историко-биографического анали-за»[3]. Это — серия очерков об американских и российских социологах, близких мне по профессиональным интересам и духу людях, о которых я писал при их жизни и/или после их смерти. И каждый такой текст был продолжением мысленных и реальных бесед с ними. Перечитывание переписки с Коном — это, в определенном смысле, «совсем даже» продолжение бесед.
С кем: с классиком или современником? Конечно, и с классиком, и с современником.
Еще в 2008 году, в преддверии 80-летия Кона, я написал заметку, которая начиналась словами: «Многие десятилетия, что я знаю Игоря Семеновича Кона, он — молодой и классик. Другим я его никогда не видел и не знаю...»
Сообщения о смерти Игоря Семеновича добирались до меня по длинной цепочке, но, в любом случае я не мог их прочесть. Он скончался 27 апреля 2011 года, однако днем 26 апреля я вылетел в Петербург, предполагал быть там несколько дней, а затем перебраться в Москву на ежегодное заседание The Gallup International Association. Там 2 мая должна была состояться презентация моей новой книги «Джордж Гэллап. Биография и судьба», изданной маркетинговым исследовательским холдингом РОМИР. Название этой книги обсуждалось с Коном в начале января 2011 года.
Первое, что в Петербурге сказала мне сестра, что звонил Борис Максимович Фирсов, сообщил о смерти Кона и о том, что похороны состоятся 1 мая. Так что вместо встречи с Игорем Семеновичем и передаче ему новой книги, обозначилось мое участие в похоронах.
На следующий день я созвонился с Владимиром Александровичем, и он сообщил мне о месте и времени гражданской панихиды. Ничего официального не было, Кон просил проводить его без шума... и мы вместе с Ядовым простились с ним в холодном тесном морге больницы.
На кремацию я не смог поехать, что-то держало меня в Москве, но с некоторым опозданием пришел в кафе, где собралось совсем немного друзей Кона, чтобы помянуть... Я постоянно был с Ядовым, вспоминали ленинградские времена.
27 апреля 2019 года исполнится восемь лет со дня смерти Кона, а 21 мая — 91 год со дня его рождения. И можно с уверенностью говорить о том, что он — современник. И не только наш, но и будущих поколений социологов.
Игорь Семенович Кон отвечал мне, но его ответы — достояние всего нашего профессионального сообщества. И я постараюсь найти возможности для публикации всей переписки.
Переписка с И. С. Коном, 2005-2006 гг.
Письма 2005 года
Письмо 1.
28 апреля 2005 г., Б. Докторов — И. Кону
[Краткое пояснение: «Сиговщина-парыговщина» — предперестроечный период в Институте социальноэкономических проблем АН СССР в Ленинграде. Деятельность директора ИСЭП И.И. Сигова и заведующего отделом Б.Д. Парыгина привели к фактическому разгрому отдела социологии, созданного В.А. Ядовым и возглавлявшегося им до его вынужденного ухода из института.]
Игорь Семенович, мой, скажем, биографо-исторический проект развивается.
Опубликовано интервью с Фирсовым [БД: Б.М. Фирсов] (я его Вам высылал?), опубликовано интервью с Гилинским [БД: Я.И. Гилинский], опубликована мозаика о Якове Капелюше [БД: Я.С. Капелюш] (умершем более десяти лет назад сотруднике Грушина), отвечает на мои вопросы Кесельман [БД: Л.Е. Кесель-ман], отправлены первые вопросы Леваде [БД: Ю.А. Левада], Здравомыслову [БД: А.Г. Здравомыслов], Ше-реги [БД: Ф.Э. Шереги]. Мое предложение Вам «поговорить» остается в силе.
80 000 знаков написал Ядов. В его тексте Вы — одна из ключевых фигур. У меня есть к Вам две просьбы.
Первое. Я попросил Володю [БД: В.А.Ядов] раскрыть смысл фразы: «Когда Игорь Кон обратил меня в социолога...»; получился очень интересный сюжет. В нем есть два пласта: личностный и (почти) институциональный.
Личностный: почему Вы предложили окунуться в социологию Ядову? Ведь рядом были не менее опытные молодые философы?
Институциональный: в истории «Кон-Ядов» ядер-ным сюжетом является книга Гуда и Хатта о методах социологии. В моих исторических и биографических штудиях я пытаюсь понять импульсы движения ученых (аналитиков) в сторону изучения общественного мнения (и других разделов эмпирической социологии). Я вижу два главных импульса: идея и идеал. Идея — это метод (Роупер, Кроссли знали, как опрашивать и потому начали; в тот момент они ничего не знали об общественном мнении). Гэллап — идея, но и идеал. Он был последователем лорда Джеймса Брайса и считал изучение общественного мнения важнейшим элементом развития демократии. Гэллап был романтиком, или, по-Ядову (от Батыгина), придурком. Можете ли Вы сказать, почему исходно Вы обратили внимание на Гуда и Хатта? Что-то исключительно новое, яркое было в самой идее методов или эти методы показались Вам перспективными в связи с интересом к анализу какой-то социальной проблемы?
Второе. Мне кажется, что сто лет назад Вы говорили мне о том, что Вы и Володя [БД: В.А. Ядов] мощно помогли Парыгину в завершении его докторской. По-сути, переписали его текст. Отмечу, что после докторской (все его книги — перепев) Парыгин ничего не сделал кроме «климатометра». Сиговщина-парыговщина нанесли огромный урон ленинградской социологической школе. Не пора ли поведать историю его lifting?
Я хотел бы в течение дня немного подредактировать текст Ядова, и завтра утром он у Вас будет. Естественно, я делаю это при согласии Ядова.
Из других моих дел: закончил с редактором работу над рукописью небольшой книги (10 листов) о первых в изучении общественного мнения. Подзаголовок — «От Гэллапа до Грушина». Издает ФОМ. Вчера отправил Борису [БД: Б.А. Грушин] серию вопросов. В новой книге, над которой я сейчас работаю с московским редактором, раздел о его деятельности будет увеличен.
Вот такие мои дела, Борис
Письмо 2.29 апреля 2005 г., И. Кон — Б. Докторову
Интервью Володи [БД: В.А.Ядов] очень интересно, но в чем-то память его подводит. Слова Митина [БД: академик М.Б. Митин] он приписал Степаняну [БД: чл.-корр, АН СССР Ц.А. Степанян] . А что требуется от меня? Я не получал вопросов.
Письмо 3.
1 мая 2005 г., Б. Докторов — И.Кону
Краткое пояснение: По техническим причинам в этом письме надо было повторить многое из сказанного в Письме 1.
Игорь Семенович,
Я рад восстановлению линии. СПАМ не дает жизни американцам, приходится защищаться, но возникают новые проблемы.
Итак , об интервью с Ядовым.
После отправки теста Вам (это было 28 апреля), мы с Ядовым его еще нарастили, сейчас — это более 100 тысяч знаков. Текст — типично ядовский, умный, раскованный, очень содержательный. Я договорился с Михаилом Илле (владельцем и редактором журнала
«Телескоп») о публикации интервью в двух журналах. Это нечто новое, но обоснованное.
Вы пишете о том, что мое письмо было оборвано, сейчас я отправлю мой текст приложением, думаю, что все будет читаемо.
Я писал:
«У меня есть к Вам две просьбы.
Первое. Я попросил Володю [БД: В.А.Ядов] раскрыть смысл фразы: «Когда Игорь Кон обратил меня в социолога...»; получился очень интересный сюжет. В нем есть два пласта: личностный и (почти) институциональный.
Личностный: почему Вы предложили окунуться в социологию Ядову? Ведь рядом были не менее опытные молодые философы?
Институциональный: в истории «Кон-Ядов» ядер-ным сюжетом является книга Гуда и Хатта о методах социологии. В моих исторических и биографических штудиях я пытаюсь понять импульсы движения ученых (аналитиков) в сторону изучения общественного мнения (и других разделов эмпирической социологии). Я вижу два главных импульса: идея и идеал. Идея — это метод (Роупер, Кроссли знали, как опрашивать и потому начали; в тот момент они ничего не знали об общественном мнении). Гэллап — идея, но и идел. Он был последователем лорда Джеймса Брайса и считал изучение общественного мнения важнейшим элементом развития демократии. Гэллап был романтиком, или, по-Ядову (от Батыгина), придурком. Можете ли Вы сказать, почему исходно Вы обратили внимание на Гуда и Хатта? Что-то исключительно новое, яркое было в самой идее методов или эти методы показались Вам перспективными в связи с интересом к анализу какой-то социальной проблемы?
В последние дни Ядов написал мне:
***
Вопрос Б.Д.: А вас знакомили с основами тестирования, с правилами формулировки вопросов, с тем, что мы называем опросными методами? Или Гуд и Хатт были полным откровением?
Ядов: Конечно, о тестах, эксперименте в психологии я знал, но впечатления это не произвело. Гуд и Хатт — совсем другое, т.к. я понял, что есть эмпирическая социология.
Вопрос Б.Д: Можно ли считать, что обращение к социологии шло от метода или все же до знакомства с Гудом и Хаттом у тебя были, пусть смутные, стремления заняться социологией?
Ядов: С социологией был более или менее знаком по работам Маннгейма, Шелера, Липпмана. Я читал их для кандидатской об идеологии, где были разделы, связанные с двумя первыми, непосредственно занимавшихся моей проблемой, а Липпману я там отвел немалый кусок в связи со стереотипами, которые имеют место и в идеологии, особенно в пропаганде. Я уже говорил о книгах Кона и Асеева [БД: студенческий друг И.С. Кона и В.А. Ядова философ Ю.А. Асеев] по «буржуазной социологии». Штука в том, что теоретические воззрения классиков социологии я кодировал для себя как социальную философию. Так что знакомство с учебником по методам было решающим.
Докторов:
Складывается набросок зарождения ленинградской социологии (такая есть, и, по мнению Ядова, и по моим представлениям), в котором книга Гуда и Хатта занимает важное место. Она — пусковой механизм.
Итак, Вы сказали Ядову о книге, Володя начал ее читать...далее поехало...Почему Вы выделили эту книгу? Она была для Вас первой в этой теме? До этого не приходилось читать подобную литературу или что-то в ней показалось необычным? В каком году это было?
Комментарий И.С. Кона:
Ядов не совсем точно излагает это дело. Книга Гуда и Хатта лично для меня никакого значения не имела. Я вообще никогда специально не интересовался методами, да и самую книгу я сразу же по ее получении отдал ребятам, они вернули мне через много месяцев.
Что социология — эмпирическая наука, я знал давно. В книге «Позитивизм в социологии» (1964) и предшествующих ей статьях, печатавшихся с 1962 г., я фактически написал историю социологии как науки, всех классиков социологии я так или иначе читал и излагал. Самого меня интересовала, прежде всего, историческая социология. Но на меня произвела сильное впечатление статья Пруденского в «Коммунисте» о свободном времени. Я подумал, что чем-то в этом роде можно и нужно заниматься и у нас (политическую социологию в СССР я считал абсолютно невозможной) и посоветовал Володе этим заняться, потому что считал его очень способным человеком, хотя наши отношения начались со стычки. Однако он в это время был еще «чистым философом» и сказал, что эта тема и вообще эмпирия кажется ему мелковатой.
Я не спорил. Но я твердо знал, что в ближайшее время эмпирическая социология у нас все равно появится, и потому заранее заказал через книжный отдел АН учебник, который считал лучшим. Как доктор наук, я имел право ежегодно выписывать себе за свои деньги несколько иностранных книг. Валюты, конечно, было мало, а цены казались очень высокими. Но я пользовался не только собственным лимитом, но и использовал еще лимит Тугаринова [БД: профессор В.П.Тугаринов], Резникова [БД: профессор Л.О. Резников], Попова [БД: профессор А.И. Попов] и еще кого-то (профессора-философы иностранных книг не читали, а деньги я платил свои).
Тем временем Рожин [БД: профессор В.П. Рожин] пробил создание социологической лаборатории, Ядов стал ее заведующим и это изменило его интересы. И как раз к открытию их лаборатории я получил книгу Гуда и Хатта и сразу же, не читая, отдал ее ребятам, среди которых был и мой аспирант Эдик Беляев [БД: Edward Beliaev (Э.В. Беляев)]. Они немедленно начали ее осваивать, и это существенно облегчило их собственный старт. Моя заслуга лишь в том, что я раньше других понял необходимость эмпирической социологии, выписал нужную книгу и не был собакой на сене, а отдал ее тем, кому она была реально нужна. Позже то же самое было с социальной психологией. Я купил учебник Креча и Крачфилда (лучшего учебника ни по одному предмету я в жизни не видел), освоил его сам, выучил по нему Диму Шалина [БД: Dmitri Shalin (Д.Н. Шалин)], заказал (в это время нас уже снабжали книгами американцы) второй экземпляр для Ядова, после чего мы с ним ни с одним мальчишкой всерьез не разговаривали, пока он не проработает эту книгу. Потому наши ребята и были грамотнее других молодых социологов, которые учебников толком не читали, а искали интересующие их сюжеты по предметному указателю, не понимая, что они не всегда адекватны.
Докторов:
Что вернее: 1) книга показала Вам существование методов , которые можно использовать для решения задач, о которых Вы задумывались ранее; 2) книга показала Вам существование принципиально иной науки
(эмпирической социологии), с помощью которой можно решать разные, новые социальные проблемы?
Вообще может показаться удивительным, что Ядов с его интересом к идеологии, стереотипам...социаль-ной психологии, интуиции не увидел в Липпмане призыва к изучению общественного мнения. Но я, думаю, что это объяснимо. Я когда-то говорил Борису Грушину, что из Липпмана скорее следует, что общественное мнение не надо изучать, чем призыв к его изучению. Липпмановский пессимизм слишком велик, он разрушителен. Гэллап уважал Липпмана, но он не был его последователем.
Вернусь к моему апрельскому письму:
Второе. Мне кажется, что сто лет назад Вы говорили мне о том, что Вы и Володя [БД: В.А. Ядов] мощно помогли Парыгину [БД: Б.Д. Парыгин] в завершении его докторской. По-сути, переписали его текст. Отмечу, что после докторской (все его книги — перепев) Парыгин ничего не сделал кроме «климатометра». Сиговщи-на-парыговщина нанесли огромный урон ленинградской социологической школе. Не пора ли поведать историю его lifting?
Комментарий И.С. Кона
Мне самому не хочется этим заниматься. Хотя к своему юбилею Парыгин опубликовал в журнале «Очень» комичную статью, где рассказывает, как его травили за то, что он был «лидером международного ревизионизма». У Ядова есть этот журнал, попросите его сканировать эту статью, это сказка. У меня нет секретарской помощи, поэтому сам я это сделать не могу.
Парыгину помогал не я, а только Володя, причем начиная с кандидатской. У него была тема «Ленин об общественных настроениях». Я лично ничего против него не имел, но когда работа дошла до обсуждения на кафедре, я сказал, что монтировать концепцию из обрывков вырванных из контекста ленинских цитат нельзя. Его руководитель А.Г. Ковалев с этим согласился, и диссертация Парыгина повисла. После этого Ядов помог ему написать приличный текст, после чего Парыгин быстро пошел в гору, отплатив за это Ядову целой серией подлостей. Особенно после того, как Ядов взял его к себе в ИСЭП. Лично мне он ничего плохого не делал, просто не было возможностей. Попросите у Ядова этот его текст, честное слово, он уникален.
Докторов:
Вот еще, что я писал в апреле:
Из других моих дел: закончил с редактором работу над рукописью небольшой книги (10 листов) о первых в изучении общественного мнения. Подзаголовок — «От Гэллапа до Грушина». Издает ФОМ. Вчера отправил Борису серию вопросов. В новой книге, над которой я сейчас работаю с московским редактором, раздел о его деятельности будет увеличен.
Главу из «Сексуальная культура в России», изд. 2. получил, все прочту. Вы пишете: «Это самый смелый поступок в моей жизни». Конечно, в России надо иметь мужество, чтобы написать в заголовке серьезной книги «сексуальная», и надо обладать мужеством, чтобы в заголовке книги было слово «культура». Два этих слова — двойное мужество.
***
Комментарий И.С. Кона
Борис, в этом названии нет ни малейшей смелости. Такую книгу я уже издавал. Смелость в том, что я публично выступаю против поповщины, которая стала у нас официальной государственной идеологией, и поч- ти никто не смеет против нее выступать. Причем это не политический привесок, а концепция. Но чтобы это понять, Вам пришлось бы прочитать всю книгу, и особенно историческую часть. Мне кажется, у нас никто не читал даже Ключевского.
Докторов:
Да, напомню, что Вы стояли и у начала моего вхождения в социологию. На одном из семинаров Ананьева в начале 1968 года нас познакомил Толя Даринский [БД: физик A.А. Даринский], мой старый приятель по двору. Меня тогда после завершения аспирантуры на мат-ме-хе загоняли в Архангельск, в который я ехать почему-то не хотел. Я искал работу. Вы меня сразу пригласили на семинар в «лабазах», куда я пришел, увидел кучу не знакомых мне людей и Галину Саганенко [БД: Г.И. Са-ганенко]. Я ей рассказал, что ищу работу. Буквально через пару дней я встретил ее на матмехе, и она сказала, что есть такой социолог с бородой Здравомыслов [БД: А.Г. Здравомыслов]. Ему нужна помощь в обработке материалов. Дала телефон и убежала. Я позвонил Здравомыслову...и вот.
Комментарий И.С. Кона
Все хорошо, что хорошо кончается. Или даже просто кончается…
Письмо 4.
11 мая 2005 г., Б. Докторов — И. Кону
Краткое пояснение: «Автобиографическая статья» — мое биографическое интервью Н.Я. Мазлумяновой «Я живу в двуедином пространстве», 2005 г.
Посылаю ответ и заодно автобиографическую статью, где многое было рассказано.
Письмо 5.
11 мая 2005 г., И. Кон — Б. Докторову
Хорошо, что что-то нашлось. С некоторыми людьми, включая В.Червякова, у меня вовсе прервалась переписка, потому что их сервер просто возвращал мне письма как cpam. Сладить с автоматикой — не легче, чем с цензурой.
[БД: нашел...В этом самом Junk Suspects были и хорошие фото Ядова, других наших коллег, сделанные много лет назад Володей Паниотто [БД: В.И. Паниот-то]... если Вы принимаете фото, завтра вышлю, я все выправил.]
Увы, фото у меня плохо скачиваются, а потом с ними нечего делать. А дошли ли фрагменты из моей новой книги? На всякий случай — прилагаю.
[БД: Завтра же напишу подробнее об интервью и сопряженных темах.]
Жду.
С 16 по 22 мая я буду в Екатеринбурге у Зборовского [БД: Г.Е. Зборовский]..
Ваш
И.К.
Письмо 6.
12 мая 2005 г., И. Кон — Б. Докторову
Мой разговор с Ядовым об изучении свободного времени состоялся вскоре после публикации статьи Пруденского в «Коммунисте», а книгу я им дал вскоре после создания их лаборатории. Вероятно, Володя эту дату помнит. Переводил ее, сколько я помню, не один Эдик, но я этого и тогда не знал. Весь этот эпизод — скорее факт нашей с Володей [БД: В.А.Ядов] биографии, чем истории науки.
К западным учебникам тянулись и другие молодые социологи. В Москве ребята под руководством Ольшанского [БД: В.Б. Ольшанский] примерно в то же время перевели (и позже опубликовали) «Социальную психологию» Шибутани, этот учебник до сих пор цитируют. Потом этим занимались на Урале и в Новосибирске, там пы- тались создать целую библиотеку самодельных переводов, чтобы люди зря не переводили книги заново и не забывали признавать чужой труд. Этим занималась, кажется, Рывкина [БД: И.В. Рывкина].
Письмо 7.
24 мая 2005 г.. Б. Докторов — И. Кону
Это у вас, Игорь Семенович, с церковью (или у нее с Вами) первый публичный конфликт, спор? Или подобное было? Кто-то из представителей церкви был на Ваших лекциях? Или они использовали Ваши публикации, интервью?
Письмо 8.
24 мая 2005 г., И. Кон — Б. Докторову
Это просто новый виток. На православных сайтах и в газетах меня поносят давно, в моей новой книге есть даже параграф «Как я стал врагом народа». В Екатеринбурге меня интервьюировали все теле и радиоканалы, причем исключительно дружественно. Собственно, я критикую не церковь, а государство, но говорю и о клерикализации образования. Вот они и гневаются, пытаясь, как всегда, перевести разговор на гомосексуальность. Думаю, что это только начало. В моей книге сказано то, на что обычно только намекают. Особенно страшен для них исторический очерк. Я Вам фрагменты посылал, но эту книгу нужно читать целиком и внимательно.
Письмо 9.
15 июня 2005 г., Б. Докторов — И. Кону
ФОМ опубликовал мою книгу «Первопроходцы мира мнений. От Гэллапа до Грушина». На какой адрес просить их выслать вам эту книгу? Борис
Письмо 10.
15 июня 2005 г., И. Кон — Б. Докторову
Спасибо! На домашний, но лучше в августе, потому что весь июль я буду в Канаде, книга может потеряться.
Письмо 11.
5 сентября 2005 г., И. Кон — Б. Докторову
Краткое пояснение: «Глава о Грушине», имеется в виду моя книга «Первопроходцы мира мнений. От Гэллапа до Грушина», 2005 г.
Дорогой Борис, получил книгу, прочитал главу о Грушине — просто замечательно написано! Поздравляю! Цитаты о дружбе при случае использую. Жаль, что не знал их, когда переиздавал свою «Дружбу». Другой возможности, боюсь, не будет.
Июль провел в Канаде, получил свою Золотую медаль. Здесь маразм быстро крепчает. Вот уже месяц не могу обновить свой сайт, телефон вебмастера не отвечает. То ли у них долгие каникулы, то ли сайт незаметно прикрыли, никого не известив. Сегодня начал размещать важнейшую информацию (о Монреальской декларации) на Gay.ru и на харьковском гендерном сайте. Посмотрим, что будет дальше. В принципе, можно все разместить на гей.ру, но обычный читатель туда не пойдет, а я пишу не только и не столько для геев. Мой сайт, как и работу, никто не финансировал.
На встрече у Запесоцкого [БД: А.С. Запесоцкий] познакомился с Генри Резником [БД: Г.М. Резник], который оказался моим старым читателем. Так что адвокат у меня теперь на всякий случай есть.
30-го буду выступать в Киеве на семинаре о гомофобии в странах Восточной Европы.
А потом целиком переключусь на книгу «Мальчик — отец мужчины», которая мне гораздо интереснее политики.
Жму руку
ИК
Письмо 12.5 сентября 2005 г. Б. Докторов — И. Кону
Дорогой Игорь Семенович,
Спасибо за добрые слова. Боре [БД: Б.А. Грушин] тоже понравилось... он нашел некоторые неточности. Слава Богу, у меня есть возможность исправить. Сейчас завершаю работу над новой книгой по той же теме, но вдвое толще. Главу о Грушине уже переписал и отправил моему герою. И Боря мне кое-что новое для этой статьи наговорил.
Первую часть интервью с Ядовым я вам пересылал. Это было в начале лета. Только что вышел «Телескоп» с продолжением. Его я высылаю. Думаю, это первый опыт публикации столь пространного интервью с одним из отцов советской-российской социологии. За год в этом направлении сделано немало: статья о Грушине (основа главы), интервью с Фирсовым, Ги-линским, Ядовым, мозаика материалов о рано умершем Яше Капелюше [БД: Я.С. Капелюш] (Грушин, Пригожин, Федотова и я), сейчас завершаю пытать Ке-сельмана, это нелегкая работа... Повторяю, что всегда готов либо проинтервьюировать вас, либо опубликовать любые ваши новые мемуарные тексты в моей рубрике в «Телескопе»... кроме публикации в «Телескопе» я все размещаю на сайте ФОМ (там есть Фирсов и Ядов)...
Опубликовал большую статью в батыгинском журнале по постгэллаповским опросным технологиям... что-то еще... Про маразм крепчает — не спорю.
Потеря сайта — это очень большая потеря... хотите, я переговорю с моим приятелем, у которого прекрасный сайт? На нем ) много социологических публикаций, есть и ваши жет он согласится разместить ваши новые работы? Я вчера был у него... бывший российский гражданин, уже 5-6 лет живет здесь, вблизи Стэнфорда... характер сложный, но человек очень интересный...
С дружескими чувствами, Боря
Письмо 13.
8 декабря 2005 г., И. Кон — Б. Докторову
Дорогой Борис,
Я подготовил для ростовского «Феникса» новый сборник избранных работ и написал к нему новую статью. Однако издание застопорилось и, возможно, не состоится. В этом случае помещу автобиографическую статью на своем сайте, с фотографиями. Посылаю Вам ее текст и несколько снимков. Просто для интереса.
Успехов!
ИК
Письмо 14.
26 декабря 2005 г., Б. Докторов — И. Кону
Игорь Семенович, только вчера вернулся из Тюмени, где во всю читал лекции по истории изучения общественного мнения в Америке и по истории американской рекламы. Это мой новый интерес... На обратном пути (24 декабря) денек пробыл в Москве, в Институте была докторская защита, потому видел многих: от Голенковой [БД: З.Т. Голенкова], Горшкова [БД: М.К. Горшков], Здравомыслова. [БД:А.Г. Здравомыс-лов] до Шапиро [БД: В.Д. Шапиро] и Ядова. Заехал домой к Заславской [БД: Т.И. Заславская]. Очумевший просидел ночь в Шереметьево и потом шесть часов во Франкфурте... и все же большие города — не для белых людей...
начал читать ваш текст, что-то мне знакомо, что-то — узнаю впервые...мой проект с биографиями продолжается. За прошедший год сделано и опубликовано Фирсов [БД: Б.М. Фирсов], (2 листа), Гилинский [БД:
Я.И. Гилинский] (2), Ядов (4), Кесельман [БД: Л.Е. Ке-сельман] (2), сейчас завершил интервью с Леной Смирновой [БД: Е.Э. Смирнова] (2 листа)...пишет Здраво-мыслов, согласилась Заславская...
В Москве я звонил Грушину и коротко обсуждал при встречах со Здравомысловым, Заславской и Ядовым мои первые выводы по этому проекту... грустные они... получается, что все мы жили в социологическом гетто... ваши записки — о том же...
в ближайшем выпуске «Социологического журнала» будет интервью со мною... прилагаю его... хотя здесь не вся правда, но то, что есть — правда...
С наступающим Новым годом, пусть все сложится... Борис
Письмо 15.
26 декабря 2005 г., Б. Докторов — И. Кону
ИС, обращаю ваше внимание на то, что у меня новый адрес <…>.
Письмо 16.
26 декабря 2005 г., И. Кон — Б. Докторову
Спасибо и счастливого Нового года!
А приложение забыли...
Письмо 17.
26 декабря 2005 г., И. Кон — Б. Докторову
Краткое пояснение: «Прочитал текст» — автобиографическое интервью «Я живу в двуедином пространстве», 2005 г. Хотя мы познакомились (см. Письмо в начале 1968 г., наши встречи были редкими и случайными..
Прочитал текст — замечательно, я почти ничего этого не знал. Наше ленинградское знакомство было поверхностным. Почему-то я лучше всего помню Ваши тревоги о здоровье сына, но какие именно — забыл.
Успехов!
Письмо 18.
26 декабря 2005 г., Б. Докторов — И. Кону
Да, заботы были... я, действительно, с вами советовался... у него было слабое зрение... теперь вы знаете почти все о моей жизни... пишите, если что, на этот адрес... я от старого скоро откажусь... Борис
Письма 2006 года
Письмо 19.
19 января 2006 г. Б. Докторов — И. Кону
Игорь Семенович, еще несколько дней назад получил ваши материалы, с особым вниманием прочел интервью университетскому журналу...думаю, что и мне вы что-либо со временем расскажете...
Всю вторую половину декабря был в Тюмени, прочел там лекции по истории изучения общественного мнения в Америке и процессу становления американской рекламы... последнюю тему я изучаю уже несколько лет, в этом году опубликовал две статьи, но лекции читал впервые...
23 декабря был менее суток в Москве, заезжал к Заславской [БД:Т.И. Заславская], я ее после отъезда не видел... от нее — в Институт, там была докторская защита, потому сразу встретил многих, кого пару и более лет не видел, в том числе Ядова и Здравомыслова. Устал я дико, но постепенно вхожу в норму.
Для чтения высылаю очерк Божкова [БД: О.Б. Божков] и Протасенко [БД: Т.З. Протасенко] о том, как зарубили книгу Валерия Голофаста [БД: В.Б. Голофаст], это документы...отдельно высылаю мою заметку — это в основном цитирование Докладной записки (пасквиля) Парыгина [БД: Б.Д. Парыгин]... два этих материала опубликованы в «Телескоп»-6 за 2005 год.
С уважением, Борис
Письмо 20.20 января 2006 г., И. Кон — Б. Докторову
Дорогой Борис, с интересом прочитал этот материал. Я ничего этого не знал, хотя о подвигах Парыгина слышал. Они начались еще в ЛГУ. После того как Ядов взял его в ИСЭП, Фирсов с ним даже поссорился. Интересно было бы приложить интервью Парыгина из журнала «Очень», который есть у меня и у Ядова, но я технически беспомощен, живу и работаю наедине с компьютером, который меня не любит. Может быть Ядов (не сам, конечно) мог бы его сканировать? Очень уж красивый материал. И в придачу — глупый. Сейчас лучше было бы рассказывать, как он всю жизнь защищал советскую власть, а либералы-западники его травили...
[БД: Заславская и Шанин пригласили меня на «Пути России», 3-4 февраля, есть люди, которым не отказывают... они — именно таковы...Планируете ли вы там быть ] Вряд ли. Я — отрезанный ломоть. Мне там нечего сказать. О будущем России мне все ясно. Авторитаризм уже есть, а будет ли открытый фашизм — вопрос времени и цен на нефть. На своем специфическом материале я это показал во втором издании «Клубнички», но это никого не интересует. Мой сборник в Ростове вроде бы скоро уйдет в печать, после чего я помещу автобиозаметки, с фотографиями, на своем сайте. Сейчас от всего отключился, пишу книгу «Мальчик — отец мужчины» и собираю материалы об отцовстве. Там действительно есть интересные проблемы. Жаль, что не достать новых иностранных книг и журналов. Впрочем, в моем возрасте много читать вредно. Сейчас я преимущественно перечитываю классику, начиная с Толстого. Насчет воспоминаний — я все изложил в своей статье, хотя не знаю, кому она адресована. Если есть вопросы — присылайте, буду постепенно думать. Трудность в том, что я пишу на компьютере медленно и не люблю отвлекаться от главной работы. А устная речь небрежна. Своего Эккермана у меня нет, да и я — не Гете. Посылаю свою последнюю «постороннюю» статью, для энциклопедии «Круго-свет». Дальше все будет только о мальчиках и об отцах. Между прочим, картина почти такая же грустная, как будущее России, но есть некоторые надежды.
Успехов!
И. Кон
Письмо 21.
20-22 января 2006 г., Б. Докторов — И. Кону
Краткое пояснение: 20 января — мое письмо, 22 января — от Кона
Игорь Семенович, хотел бы слегка продолжить...
***
Комментарий И. С. Кона
Интересно, как узок мир. Толя Даринский [БД: А.А. Даринский] с двумя своими друзьями (один из них — Жора Михайлов) был среди постоянных слушателей моего курса социологии личности в 1964. Потом они все трое бывали у меня дома и даже приезжали ко мне в Орленок. Хорошие были ребята. Однажды им сильно повезло. В 1969 г. в Париже мне подарили бутылку коллекционного сотерна 1932 года, вино надо было выпить в течение месяца, и я сделал это с ребятами. А в 1965 мы с ними ели/пили привезенный с Кубы кокос. Позже, когда Жора стал опасным диссидентом, их дружба распалась, но Жора продолжал заходить. Когда он был в тюрьме или в лагере и его там пытались убить, я послал ему свою новую книгу с дарственной надписью, и это произвело впечатление на замполита, который где-то учился и мои работы знал. Моя надпись помогла ему понять, что Жора — никакой не преступник, и он чем-то облегчил ему жизнь. Впрочем, возможно, это был не замполит, а врач. Но что-то в этом роде Жора мне рассказывал. Политиздатская книга, подаренная политзаключенному, вероятно, выглядела экзотично.
Докторов:
Здесь лишь добавлю, что у Толи все сложилось пу-тем...он стал известным физиком, защитил докторскую на стыке физики и молекулярной химии (биологии), продолжает жить в нашем доме, где живет и моя сестра, иногда они встречаются... я ему отправлю электронное письмо... может и он помнит вкус сотерна и кубинского кокоса?
До Тюмени (в начале декабря прошлого года) я был день в Москве, звонил Борису Грушину... ранее он мне кое-что надиктовал о себе (ему писать совсем трудно) и готов продолжить...Так вот, я сказал ему, что первый анализ собранных мною интервью (Фирсов, Ядов, Ги-линский, Кесельман) позволяет мне предположить, что социологи вашего и моего поколения, даже наиболее успешные, жили в «социологическом гетто»... я пояснил Борису [БД: Б.А. Грушин], что это значит в моем понимании, но он все сечет вмиг и не только согласился, но стал конкретизировать... Потом я сказал аналогичное Здравомыслову... Андрей, по-моему, не был в той же мере согласен со мною, как Борис, но все же не разубеждал меня в этом моем пока предварительном выводе... когда я был у Заславской [БД:Т.И. Заславская] и рассказал о том, что делаю, я сказал и о гетто, Т.И. согласилась...
Вопрос 1: Что вы думаете по этому поводу?
Ответ И.С. Кона
Я с этим согласен, больше того, мы все это сознавали. Но в каком-то смысле это относится ко всякому научному сообществу. Пример — школа Лотмана [БД: Ю.М. Лотман]. Это не всегда плохо.
Докторов:
Думаю, что это не совсем так... школа Лотмана (возможно, в каком-то смысле и команда Левады [БД: Ю.А. Левада]) — это закрытые монастыри с очень сильным противопоставлением «мы» и «они». На мой взгляд, такие монастыри — это скорее вид оазиса в гетто, это была «замкнутость на себя», защищенность от атмосферы гетто. Школа Лотмана была и должна была быть в какое-то время самодостаточной; вы правы, в начале роста внешние контакты мешают... (да, пару лет назад Коля Вахтин [БД: Н.Б. Вахтин] говорил мне с гордостью, что Алик Байбурин [БД: А.К. Байбурин] имел грандиозный успех в Сорбонне и стал почетным профессором этого университета то ли по антропологии, то ли по русистике)... мою ситуацию я называю «отшельничеством», но это тоже не гетто... я свободен в высказываниях, в выборе тем, в контактах... я в первую очередь сам все дозирую...
В моем понимании, понятие гетто не относится ко всему сообществу в равной мере. Дело в том, что работа биологов, химиков, физиков, математиков и многих других не требует прямого выхода, обращения к населению, к различным группам общест-ва...тогда как работа социологов предполагает прямой контакт с населением...вспомните, много вас печатали в прессе, давали возможность выступить по радио, на ТВ до 1985 года?...в Ленинграде такого не было... мы изучали общество (пусть сказано громко) для себя... социологи не были публичными, мы не выходили за границы зоны, в которой нам было предписано жить... все публичные разговоры могли происходить только в «присутствии» наблюдателя (я имею в виду цензорский контроль публикаций) и так далее, в том числе поездки за рубеж...
Комментарий И.С. Кона
Вероятно, вы правы насчет гетто. Но многое зависело от тематики. Я печатался в те годы значительно больше, чем сейчас, и все, что я писал, находило широкий отклик. А Ленинград просто был режимным городом, в нем все было запрещено и опасно.
Докторов:
Вопрос 2: Что вы думаете о связях советской и российской дореволюционной социологии?
Ответ И.С. Кона
Никакой связи не было и быть не могло. У нас было два течения. Экономисты имели какую-то родословную через Струмилина [БД: С.Г. Струмилин], а философы все придумывали заново или опирались на западные работы 1950-х. Я об этом пишу в своей статье. Русскую и раннюю советскую социологию открыли уже наши ученики. Собственно, я Голосенко [БД: И.А. Голосенко] для этого и брал. Хотя не совсем — Сорокин [БД: П.А. Сорокин] интересовал меня не как русский, а как американский социолог. Старые русские работы были еще запретнее западных. В Ленинграде важнейший вклад в это дело внес В. Зверев [БД: В.М. Зверев].
Игорь [БД: И.А. Голосенко] научился у него большему, чем у меня. Это удивительный человек, настоящий подвижник науки.
Докторов:
Мне ваши слова: «Никакой связи не было и быть не могло» кажутся справедливыми и утверждение «Русскую и раннюю советскую социологию открыли уже наши ученики» — очень точным. Про Сорокина...на лекциях в Тюмени просил назвать студентов, уже прослушавших что-то по социологии, назвать хотя бы одно имя советского социолога... в двух аудиториях мне назвали только одно имя: Сорокин. Пришлось разубеждать, что не только не советский, но просто — американский...
Вопрос 2а: Как вы думаете, почему «Старые русские работы были еще запретнее западных»? Чтобы меньше думали и говорили о том, какую Россию мы потеряли (по Говорухину) или советская идеология опасалась западничества и славянофильства?
Ответ И.С. Кона
Думаю, что это был естественный процесс — людей уничтожили, а книги положили на спецхран, а потом просто забыли. Посмотрите в моем тексте, как я узнал о книге Асмуса [БД: В.Ф. Асмус]. А он был жив и книга его даже не была на спецхране. Просто узнать о ней было негде. А в социологии все были самоучками, если не считать западных учебников. Просто дореволюционную науку забыли уже в 1930-х, а раннесоветскую — после войны. Да и зачем было что-то читать — все новые идеи принадлежали Сталину. Чтобы понять, как мы до этого дошли, я в аспирантские годы (1948-49) просмотрел комплект журналов «Под знаменем марксизма» и еще каких-то с 1920-х до начала войны, и мне все стало ясно.
Докторов:
Вопрос 3: есть ли будущее у марксистской социологии в России?
Ответ И.С. Кона
Конечно. Без марксизма вообще не может быть социологии. В советское время отвращение к нему формировала, прежде всего, его обязательность. Я помню, как мои студенты с увлечением слушали о Дюркгейме, а мои слова об интересности Маркса воспринимали недоверчиво, как дань условности. Сейчас марксизмом интересуются, с одной стороны, тупые догматики, а с другой — наиболее критически настроенные люди. Ничего более пошлого, ненаучного и циничного, чем «общечеловеческие ценности», о которых стали писать в 1990-х, я просто не знаю. Насколько я знаю, ни один приличный социолог этим себя не запятнал. Другое дело — ленинизм, да и вообще «верность учению».
Докторов:
Пока в моих интервью отношение к марксизму коррелирует с принадлежностью к поколению.
В.А. Ядов : «Я определенно был марксистом и сегодня никоим образом этого не стыжусь, много пишу о полипарадигмальности современной социологической теории, причем Маркс занимает далеко не последнее место, он рядом с Вебером... Маркс — величайший мыслитель. Он прописан во всех западных учебных пособиях по социологии. Одна идея об отчуждении личности наемного работника (пролетария) стоит ничуть не меньше концепции социального действия Вебера».
А.Г. Здравомыслов : «Маркс создал каркас социологического знания, который невозможно устранить, нельзя возвратиться в домарксистскую эпоху, хотя у нас таких любителей движения вспять очень много...»
Социолог моего поколения (интервью будет опубликовано в феврале): Марксизма», кажется, в российской социологии не стало, а вот Маркс изучается, включается в работы именно там, где его идеи уместны, несут объяснительную силу... Поэтому мне хочется сказать так: политеоретичность, адекватная изучаемой проблематике — вот норма последних лет.
Социолог моего поколения (интервью будет опубликовано в апреле) : «Я полагаю, марксизм займет свое место в музее истории социологии, не более того. Он не прошел испытание историей. Ни один из догматов марксизма не был подтвержден исторической практикой. Отношение труда и капитала, классов, роль государства, экономический прогресс — весь этот круг проблем не только получил иные более точные трактовки, но и нашел и находит свои решения там, где Маркс видел непреодолимые противоречия. С точки зрения теории познания, марксизм страдал панлогизмом, пытаясь выстроить универсальные и непротиворечивые конструкции там, где их принципиально, в силу открытого и развивающегося характера общества и множества других причин выстроить было нельзя. Марксизм можно обвинить и в номинализме, философии, заимствованной из донаучных постулатов средневекового мышления...».
Комментарий И.С. Кона
Это верно для всех измов. Теоретический вклад был сделан в 19 в., а идеология обанкротилась в 20.
Докторов:
Вопрос 3а: Не может ли так случиться, что новые поколения социологов, мало и плохо изучая марксизм в университетах, полностью отойдут от марксизма? Не означает ли это, что вскоре они начнут (или это уже началось?) критиковать сделанное вашим поколением и отказываться от этого наследия?
Ответ И.С. Кона
Это уже происходит. Дело не в критике и не в марксизме. Социологи моего поколения просто сводят старые счеты друг с другом. А молодым нас читать вообще не стоит. И не только потому, что им приходится следовать нормам своих западных спонсоров. Кому, кроме историков науки (и идеологии), охота тратить время на чтение работ, которые заведомо были не вполне честными и, как правило, не отвечали даже тогдашним западным стандартам? Если бы я сейчас был мо- лодым, никаких советских сочинений я бы читать не стал, а если бы что-то прочитал, то не понял бы. Это то же самое, что учиться по средневековой схоластике или физике 17 в. Об этом тоже говорится в моей статье, но молодые люди ее читать не будут.
Докторов:
Я выделяю двенадцатилетние поколения социологов [БД: Позже классификация поколений была несколько уточнена]. Первое — «шестидесятники», родившиеся вблизи 1929 года (для Ленинграда, это год рождения Здравомыслова, Фирсова, Ядова), второе поколение — «шестидесятилетние» с опорной точкой — 1941 год (Божков, Бозрикова, Саганенко, Лена Смирнова, я, покойный Валерий Голофаст..), третье — с фокусом в 1953 году (Лена Здравомыслова. [БД: Е.А. Здра-вомыслова] ..) ...далее совсем молодые, имен которых я не знаю...
[БД: Позже я перестроил этот подход, он описан во множестве моих публикаций].
Пока первый вопрос, относящийся к теме поколений в социологии:
Вопрос 4: Мне кажется возможным охарактеризовать указанные три поколения российских социологов типом их отношения к советскому социализму. Ваше поколение в целом исходило из допущения о реформируемости, возможности улучшения советской модели социализма; мое — в это слабо верило, третье — уже в школьные годы или в начале своей професссионализа-ции не верило в социализм...Так ли это?
Ответ И.С. Кона
Думаю, что да. Хотя лично я ничему не верил с 1968 года, а многому — значительно раньше. Я просто использовал официальную идеологию для разоблачения советской действительности. Верить в марксистскую утопию было необязательно, важнее было показать, что действительность на нее совершенно не похожа. Но поколенческий подход весьма проблематичен. В каждом поколении были разные люди. Идеологические параметры были важнее возрастных.
Письмо 22.
22 января 2006 г., Б. Докторов — И. Кону
Отвечая на мои вопросы, вы дважды упомянули вашу статью. Первый раз: «Посмотрите в моем тексте, как я узнал о книге Асмуса», второй — «Если бы я сейчас был молодым, никаких советских сочинений я бы читать не стал, а если бы что-то прочитал, то не понял бы. Это то же самое, что учиться по средневековой схоластике или физике 17 в. Об этом тоже говорится в моей статье, но молодые люди ее читать не будут!!». Какая статья имеется в виду? Если у вас есть электронная копия, пожалуйста, перешлите... все прочту. Боря
Письмо 23.
22 января 2006 г., И. Кон — Б. Докторову
Это статья «Эпоху не выбирают», которую я вам послал, и вы ее читали.
Сборник сейчас готовится к печати.
Письмо 24. 21-22 января 2006 г., Б. Докторов — И. Кону
Краткое пояснение: В письме есть серия вопросов И.С.Кону, но нет его ответов. Скорее всего, к сожалению, этот мэйл не сохранился. Кон был всегда аккуратен в переписке и обычно отвечал на мои вопросы.
Можно потихоньку продолжить, Игорь Семенович?
Вы пишете:
Кому, кроме историков науки (и идеологии), охота тратить время на чтение работ, которые заведомо были не вполне честными и, как правило, не отвечали даже тогдашним западным стандартам? Если бы я сейчас был молодым, никаких советских сочинений я бы читать не стал, а если бы что-то прочитал, то не понял бы. Это то же самое, что учиться по средневековой схоластике или физике 17 в.
... замечу, физики (астрономы) используют не только измерения Тихо Браге (1546-1601), но даже Улукбе-ка (1394-1449). Конечно, трудно извлечь нечто полезное из советских сочинений, но можно и должно. Вопрос лишь в методологии прочтения...скажем, многие выводы и цифры «Человека и его работы», «Человека после работы», Фирсовских наблюдений за ТВ-аудиторией, уверен, и сейчас полезны и важны. Или, например, то, что сейчас делает Борис Грушин, обращаясь к своим архивам хрущевских и брежневских времен. В моей новой книге, она выходит в конце февраля, я немного говорю о «Голограмме Грушина» — методе, с помощью которого Борис [БД: Б.А. Грушин] анализирует прошлое... Некоторые вопросы Гэллапа используются уже 70 лет. В свое время критиковались и формулировки Гэллапа, и его выборка... сегодня этим длинным рядам нет цены. Буквально на той неделе я закончил и отправил в «Телескоп» статью «Оцифрованные голоса поколений», где пунктирно проанализировал 10 рядов (каждому из которых 60 и более лет) и слегка воспел метод, которым пользуется Грушин.
Вопрос : Не кажется ли вам, что если среди начинающих социологов культивировать лишь критическое отношение к работам советских социологов, то не в столь отдаленном будущем мы потеряем принципиальную возможность изучения динамики сознания и поведения советского/российского человека? Опять потеряем кусок истории нашей науки, и нужны будут новые Зверевы [БД: В .М. Зверев] и Голосенко [БД: И.А. Голосенко], чтобы открыть советскую социологию...
Отвечая на мой вопрос о поколениях в современной российской социологии, вы сказали, что: «...поколенческий подход весьма проблематичен. В каждом поколении были разные люди...». Я согласен с вами, тем не менее, все же есть нечто, что свойственно поколениям в целом, при том, что в каждом из них были и есть разные люди.
Вопрос : После смерти Валерия Голофаста [БД: В.Б. Голофаст] меня стала интересовать судьба моего поколения, повторяю, я называю его «шестидесятилетними»; это те, кто родился в преддверии войны или в годы войны. Есть пессимистическая точка зрения — это поколение — потерянное, но есть более спокойные оценки. Что вы скажете по этому поводу?
Вопрос : Если иметь в виду Ленинград, то рискну сказать, что социальные проблемы были четче поставлены, резче обозначены Бродским, Довлатовым, Шемякиным, митьками, чем профессиональными социологами моего поколения. Что «Сайгон» (помните, кафе на углу Невского и Владимирского?) лучше готовил социологов, чем университетская и академическая аспирантуры? И в смысле знания общества, и в смысле отстаивания своей точки зрения на мир. Или художники всегда лучше социологов видят и формулируют социальную проблематику?
Письмо 25.
23 января 2006 г., Б. Докторов — И. Кону
Ну конечно, и с фотографиями нашел... это было в архиве моего старого почтового ящика... Борис
Письмо 26.31 января 2006 г., И. Кон — Б. Докторову
Дорогой Борис, посылаю заметку со своего сайта. Может быть, Вам это будет интересно. Получил номер «СПБ Университета» со своим интервью. Там все такое благонамеренное, а я такой злобный диссидент... А теперь демократы скажут, что я защищаю генералов.
Ваш
ИК
Письмо 27.
31 января 2006 г., Б. Докторов — И. Кону
ИС, спасибо, 1 февраля ближе к вечеру буду в Москве, не знаю, будет ли у меня в номере телефон (Это гостиница-общежитие Шанинки [БД: Московская высшая школа социальных и экономических наук] но ориентируюсь на то, чтобы вам позвонить.
Вы писали что-то про трудности с компьютером...? Почему-то ваше приложение (заметка) пришло с пометкой: «Внимание! В Интернете эпидемия вируса, распространяющегося через zip-архивы. Не открывайте такие приложения, даже если письмо пришло от известного Вам адресата!».
Статью прочел непосредственно на сайте... Да, у ряда демократов может возникнуть мысль о то, что вы защищаете генералов... но и Бог с ними, с этими демократами... все в стране очень политизировано... вы объясняете суть хейзинга, но это никого не интересу-ет...сейчас актуально «долой Иванова»... это можно было скандировать и много раньше... было бы полезнее... но пришел бы другой Иванов.
Не замерзайте, Борис
Письмо 28.
14 мая 2006 г., И. Кон — Б. Докторову
Дорогой Борис, журнал «Очень» (январь 2005) с интервью Парыгина [БД: Б.Д. Парыгин] нашелся, но сканировать его мне не под силу. Если кто-то его возьмет — могу отдать. Там много интересного. Его, наверное, можно найти и в Петербурге, в Публичной б-ке или где-то еще. Если бывшим коллегам БД интересна его версия событий.
Успехов!
ИК
Письмо 29.
16 мая 2006 г., Б. Докторов — И. Кону спасибо за радостную весть... я — в Тюмени... буду думать, что делать... Борис
Письмо 30.
27 октября 2006 г., И. Кон — Б. Докторову
Краткое пояснение: «Сайт Шалина-Докторова» — Международная биографическая инициатива < >.
Спасибо, Боря!
Мой сборник, вступлением к которому является интересующий Вас текст, вышел, хотя авторских экземпляров я пока не получил. Обстановка в Москве дурная, отдельно пересылаю письмо Агаркова [БД: маршал Н.В.Огарков]
Сейчас делаю статью по итогам французской поездки, на личные нападки не отвечаю, но текст получается жесткий.
[БД: Франц Шереги готов издавать мои материалы в виде книги, это будет объемистый том интервью и другого вида биографических материалов о социологах вашего и моего поколений. Не о всех. Если все пойдет по плану, то в конце первого квартала 2007 хочу отдать книгу в издательскую работу…]
Это очень важное дело, я просто не люблю жанр интервью.
[БД: Вы о себе многое написали, кое-что издали.. потому воздержались принять мое предложение об интервью. Но... мне бы очень хотелось все же иметь в этой будущей книге материалы о вашей жизни. У нас на сайте Шалина-Докторова есть ваши мемуары. Их объем — 300 000 знаков. Для книги это много, могу ли я сделать из этого текста сокращенный вариант, скажем на 80-100 тысяч знаков для публикации в книге? Естественно, всю эту работу я согласовывал бы с вами. Пока спешки большой нет, если бы могли это все сделать до конца текущего года, было бы прекрасно].
Спасибо, давайте. Если что-то неясно, я отвечу.
[БД: Текст беседы со Шляпентохом прилагаю. Он войдет в книгу еще советских публикаций Володи (БД: В.Э.Шляпентох), которую готовит к изданию опять же Франц (Ф.Э. Шереги), его бывший аспирант.]
Грустное впечатление... Все мы эгоцентрики, и с возрастом это усиливается, но бросать тень на покойников, о которых при их жизни было известно только хорошее, как про Замошкина [БД: Ю.А. Замошкин], непозволительно.
Хвали себя, любимого, но зачем порочить других, особенно тех, кто уже не может ответить и не сделал тебе ничего плохого? И многое другое в том же роде. Если бы я стал об этом писать, что исключено, то использовал бы это, наравне с замечаниями Ю. Давыдова [БД:Ю.Н. Давыдов], как пример всеобъемлющей совковой зависти, характерной даже для успешных и приличных людей и непроходящей даже после того, как ты пережил и тем самым опередил воображаемого конкурента. <…>.
Да, узок мир.
Успехов!
ИК
Письмо 31.
28 октября 2006 г., Б. Докторов — И. Кону да, Игорь Семенович, прочел все тексты, мутная ситуация, в полной мере отвечающая времени. Безусловно, вам ввязываться во все эти дела нельзя, пользы не будет, время и силы затратите, нахлебаетесь всякой грязи... боюсь, что вся эта заваруха творится не ради поисков истины. Но грустно от того, что вам приходится в той или иной мере включаться во все это.
Выход сборника — поздравляю — всегда радость для автора, хотя всегда остаются сомнения и присутствует неудовлетворенность.
Я не думаю, что публикация ваших воспоминаний в нем препятствует публикации фрагментов ваших мемуаров в других изданиях. Или есть юридический запрет? Если формальных препятствий вы не видите, может быть, я все же начну готовить сокращенный вариант? Естественно, я все покажу вам...
с добрыми чувствами, Борис
Письмо 32.
28 октября 2006 г., И. Кон — Б. Докторову
Никаких препятствий нет, можно делать сокращенный текст. Главное — чтобы это был спокойный текст, без хвастовства и сведения личных счетов (если что-то такое проскользнуло), которые давно уже никого не волнуют. Если что-то неясно — спросите, я сейчас стабильно в Москве, буду писать книгу о мальчиках, под которую нашел в Париже много интересного.
Ваш
ИК
Письмо 33.
28 октября 2006 г., Б. Докторов — И. Кону
Спасибо, потихоньку начну делать... Боря
Письмо 34.
3 ноября 2006 г., Б. Докторов — И. Кону
Игорь Семенович, а нет ли у вас текста о парижской командировке в WORD? Зипованный материал таит в себе вирусы, не ваш именно, а вообще. Не рекомендуется открывать. Боря
Письмо 35.
3 ноября 2006 г, И. Кон — Б. Докторову
Там нет вирусов, проверено. Компьютер просто страхуется. Впрочем, 7 ноября это будет на моем сайте.
Письмо 36.
28 декабря 2006 г., И. Кон — Б. Докторову
Дорогой Борис,
Счастливого Нового года, доброго здоровья и всего самого лучшего! Видел Вашу статью в «Социальной реальности» (они мне стали посылать журнал, там много для меня интересного, хотя попытки интерпретировать сложные процессы социального развития только на основе опросных данных кажутся наивными).
У меня все без перемен. Полония-210 на всех не напасешься, да и зачем, если пипл и так все хавает? Даже зарплату прибавили. А что люди кругом умирают, так на то они и старики.
Держитесь! В Калифорнии климат все-таки лучше.
Ваш, И. Кон
Письмо 37.
29 декабря 2006 г., Б. Докторов — И. Кону
Игорь, можно без отчества?
[ИС: Конечно]
...а мы как раз сейчас (right now) с Димой [БД: Dimitri Shalin (Д.Н. Шалин)] в переписке... он разместил ваше интервью (с Полит.Ру) на нашем сайте... я послал.
[ИС: Мой текст не был вычитан. Там есть фразы, которых я бы не подписал. Впрочем, все равно. Посмотрите последние старые материалы на моем сайте. К вопросу о влиянии социологии на жизнь.]
Письмо 38.
29 декабря 2006 г., Б. Докторов — И. Кону
Посмотрю ваш сайт... может выправите текст? мы с Димой его разместим по-новой... Б.
Письмо 39.
29 декабря 2006 г., И. Кон — Б. Докторову
Зачем делать лишнюю работу? Чтение и правка собственных текстов мне никакого удовольствия не доставляет. Другое дело — когда старый опубликованный текст оказывается вполне современным.
Докторов Б. Мир Владимира Ядова. В. А. Ядов о себе и его друзвя о нём. - М.: ВЦИОМ, 2016 с.8.
Докторов Б. Нескончаемв1е беседы с классиками и современниками. Опыт историко-биографического анализа : — М.: ЦСП, 2018.
Igor Kon: «You Can't Hide Anything From History» From Email Correspondence With I.S. Kon. Part I. 2005-2006
Boris Doktorov
Список литературы Игорь Кон: "От истории ничего утаить нельзя" из электронной переписки с И.С. Коном. Часть I. 2005-2006 гг
- Докторов Б. Мир Владимира Ядова. В. А. Ядов о себе и его друзья о нем. - М.: ВЦИОМ, 2016 с.8. http://www.sotioprognoz.ru/publ.html?id=451
- Докторов Б. Нескончаемые беседы с классиками и современниками. Опыт историко-биографического анализа: - М.: ЦСП, 2018. http://www.sotioprognoz.ru/publ.html?id=508


