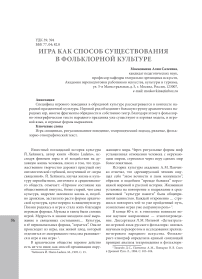Игра как способ существования в фольклорной культуре
Автор: Московкина Алия Салеевна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Духовное наследие и культура
Статья в выпуске: 4, 2015 года.
Бесплатный доступ
Специфика игрового поведения в обрядовой культуре рассматривается в контексте народной праздничной культуры. Игровой ряд объединяет большую группу драматических народных игр, многие фрагменты обрядности и собственно театр. Благодаря этому в фольклорно-этнографическом тексте народного праздника уже существуют и игровая модель, и игровой язык, и игровые формы выражения.
Игра священная, ритуализованное поведение, театроведческий подход, ряженье, фольклорно-этнографический текст
Короткий адрес: https://sciup.org/170173842
IDR: 170173842 | УДК: 39;
Текст научной статьи Игра как способ существования в фольклорной культуре
Известный голландский историк культуры Й. Хейзинга, автор книги «Homo Ludens», исследуя феномен игры и её воздействие на духовную жизнь человека, писал о том, что художественное творчество дорожит присущей ему онтологической глубиной, полученной от «игры священной». Й. Хейзинга, изучая жизнь и культуру первобытного, античного и средневекового обществ, отмечает: «Игровое состояние как общественный импульс, более старый, чем сама культура, издревле заполняло жизнь и, подобно дрожжам, заставляло расти формы архаической культуры, культ перерос в священную игру. Поэзия родилась в игре и стала жить благодаря игровым формам. Музыка и танец были сплошь игрой. Мудрость и знание находили своё выражение в священных состязаниях… Культура, в её первоначальных формах, “играется”. Она не происходит из игры, как живой плод, который отделяется от материнского тела; она развивается в игре и как игра» 1.
В архаическом обществе игровое действо есть не что иное, как способ организации окру- жающего мира. Через ритуальные формы миф устанавливал отношения человека с окружающим миром, стремился через игру сделать мир более понятным.
Историк культуры академик А. М. Панченко отмечал, что «древнерусский человек ощущал себя “эхом вечности и эхом минувшего”, образом и подобием “прежде бывших” персонажей мировой и русской истории. Жизненная установка на повторение и подражание в средневековой “культуре памяти” была общепринятой ценностью. Каждый откровенно … стремился повторить чей-то уже пройденный путь, сознательно играя уже сыгранную роль» 2.
В конце 80-х гг. в этнологии возникло новое научное направление — этнотеатроведение. Диссертация Л. М. Ивлевой «Дотеатраль-но-игровой язык русского фольклора» явилась научным переворотом в исследовании зрелищно-игрового народного искусства. Фольклорист-этнограф определила единый связующий принцип анализа театроведения и фольклори- стики как междисциплинарный, единый для театра и игрового фольклора, раскрыла языковой фонд как основу зрелищно-игрового искусства, разработала теорию игры в её театроведческом аспекте. Исследователь утверждает, что игра в театроведческом смысле слова представляет собой систему действий особого рода. «Игра — это специфический язык, который определяется двумя необходимо существенными ярусами признаков: первый из них связан с перевоплощением, второй — с действием как наглядным способом изображения персонажа» 3. Л. М. Ивлева разрабатывает уровень универсалий игровых форм, где представляет игру в качестве специфического способа существования целого ряда явлений культуры.
Важным открытием явилось заключение учёного о том, что игровой ряд объединяет большую группу так называемых драматических народных игр, многие фрагменты обрядности и собственно театр. Благодаря этому в фольклорно-этнографическом тексте уже существуют и игровая модель, и игровой язык, и игровые формы выражения, охватывающие и обслуживающие разнородные пласты материала. Театроведческий подход к явлениям фольклорной зрелищно-игровой культуры, разработанный Л. М. Ивлевой, отвечает фольклористическим, этнографическим, лингвистическим интересам, требованиям всестороннего комплексного подхода.
Благодаря научным изысканиям и открытиям Л. М. Ивлевой, к настоящему времени этнотеатроведением осознана необходимость изучать обрядово-игровое действие в контексте породившей его мировоззренческой системы сквозь призму символики, определяющей в нём игру и костюм, слово и жест. Игровой язык является специфическим способом моделирования мира, имитации действительности и исполнительски связан с такими поведенческими факторами, как действие и перевоплощение. Непосредственная жизнь фольклорных жанров связана с особыми исполнительскими средствами, а, именно, — с художественным воплощением текста не только в слове или музыке, но и в жесте, мимике, выразительном или изобразительном действии.
Исполнитель обряда являлся гарантом осуществления его в этносреде. Следует отметить высокий уровень символики, присущий действующему лицу. Его символическая природа формируется из синтеза таких элементов, как слово, атрибут, движение. Благодаря наличию ритуальных персонажей возникают особые одежды, изменения в типе и характере речи, музыка, пение, строгая последовательность жестов и движений. Ритуальными персонажами были: обычный человек, антропоморфные, зооморфные, орнитоморфные существа. Все они должны были владеть искусством мимики, жеста, интонации, мастерства перевоплощения.
Характеризуя специфические черты ряженья, Л. М. Ивлева предлагает рассматривать это явление с точки зрения различных кодов, раскрывающих его зрелищно-игровую природу. По утверждению учёного, ряженье относится к числу игровых обрядовых действий, оно является игровой версией мифологических представлений (разворачивается как игра по форме, миф по содержанию). Игровая версия ряженья выступает как этнокультурный текст, имеющий несколько художественных языков. Изобразительный язык включает в себя костюм, маску, предметно-материальные атрибуты, грим. Музыкальный язык — песенные и инструментальные фрагменты ряженья, его звуковой образ в целом, а хореографическое поведение — жестикуляция, мимика, набор основных действий, которые ряжеными совершаются. «Вместе с тем ряженье — это ещё и результат подобного преображения, который обязательно приобретает в ритуале дополнительную функциональносмысловую нагрузку» 4.
Л. М. Ивлева настаивает на необходимости размежевания двух форм переряживания: обрядовых и необрядовых, т.е. отделить ряженье как явление от ряжения как приёма. Первое выступает как особое обрядовое действие, а ряжение — приём характеризует перевоплощение актёров в представлениях народного театра и способ существования участника маскарадных «потех». Обрядовое действие состоит в изменении «окрутником» (т.е. ряженым) собственной внешности до полной неузнаваемости (мажет себя сажей, краской, глиной, мукой, нанося их на лицо, шею, руки и другие открытые участки тела) и переодевании в особую ритуальную одежду.
Этот ритуальный контекст существования ряженого точно определил писатель В. Белов: «Потребность представляться вызывается, вероятно, периодической потребностью преобразиться, отрешиться от своего “я”, как бы со стороны разглядеть самого себя, а может быть даже отдохнуть от этого “я”, превратившись на короткое время хотя бы и в собственную противоположность. Не случайно девицы любили наряжаться в мужское, а парни — в женское. Комический эффект достигался в таких случаях несоответствием наряда (вида) и поведения (жестов, ухваток). Но всего вероятнее, наряжаясь, например, чёртом, человек как бы отмежевался от всего дурного в себе, концентрируя в своём новом “вывернутом” образе всю свою чертовщину, чтобы освободиться от неё, сбросив наряд. При этом происходило своеобразное, как бы языческое, “очищение”. Чтобы освободиться от нечисти, надо было выявить эту нечисть, олицетворить и вообразить её (то есть ввести в образ)» 5.
Благодаря игровым формам свадебной и календарной обрядности, традиционная культура закрепляла нормы ритуализованного поведения. В культуре с традиционной системой средств общения жесты играли особую роль. Однако далеко не все движения имели статус жеста. «Необходимо, чтобы движение имело знаковый характер… Движение станет таковым только в том случае, если ему приписывается не только практический, но и символический смысл» 6.
При исследовании природы жеста и его сакральной значимости нужно иметь в виду, что и в народной культуре, и в церкви, и в придворном обиходе был одинаково употребим национальный фонд жестов.
Исследователи истоков этикета А. К. Бай-бурин и А. Л. Топорков обнаружили существенную разницу в бытовом и праздничном поведении среди крестьян центральных губерний России. В будни мужчины держались степенно, «разговаривали» правой рукой, засунув левую за кушак. В ритуале «рукобитье» (свадебный обряд) — подавали руки, обернув их полой одежд.
В поздних вариантах надевали меховые рукавицы, поскольку обнажённая рука расценивалась как «средство к сладострастью». С течением времени это действие приобрело другой смысл: браться за обнажённую руку, значит обрекать себя на бедность, поэтому в хороводах партнёршу брали за локоток или же за платок.
Религиозный, светский, народный характер коленопреклонения и простирания ниц был также присущ национальному фонду стереотипа поведения. Они являются знаками подчинения, смирения, покорности: от ритуальных поклонов сакральному объекту (земле, божеству) — к этикетному поклону, символизирующему отношение младшего к старшему. Язык значимых движений, лежащий в основе ритуального поведения, органично переходит в сферу народного этикета. Раскрывая природу этикета, А. К. Байбурин и А. Л. Топорков отмечают его «неопределённый феноменологический статус: он может быть рассмотрен и как определённая система знаков, и как специфическая форма регуляции человеческого общения, и как особая форма поведения. Этикет и ритуал пользуются общим фоном поведенческих стереотипов, приспосабливая их к своим “нуждам”» 7. Особой спецификой поведения продолжает оставаться его игровой характер.
Этикетность, в которую перерождается обрядность, не только несёт социально-органи-зующую, но и сохраняет художественно-символическую функцию.
Исследуя этнокультурные тексты, необходимо помнить, что те культуры, в которых этикет не утерял связь с «корнями», где он тесно сопряжён с верованиями, религией, ритуалами, на первый план выходит обучение нормам, так как этикет в традиционном обществе является непосредственной реализацией моральных ценностей 8.
Рассматривая этикет в семиотическом аспекте, А. К. Байбурин и А. Л. Топорков предлагают воспринимать его как определённую систему знаков, имеющую свой словарь и грамматику. Этикет относится к вторичным моделирующим системам, надстраивающимся над первичной моделирующей системой — языком. Желательно с данных позиций подходить к конструированию и воссозданию этой вторичной моде- лирующей системы. Владение языком этикета подразумевает высокую степень осознанности и творческой активности.
Народный этикет сохраняет специфику художественного синкретизма и игровую природу фольклорно-этнографического текста.
Список литературы Игра как способ существования в фольклорной культуре
- Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета. Л., 1990.
- Белов В. И. Лад: очерки о народной эстетике. Л., 1964.
- Громыко М. М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. М., 1986.
- Зрелищно-игровые формы народной культуры. СПб., 1990.
- Ивлева Л. М. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. СПб., 1998.
- Ивлева Л. М. Обряд, игра, театр: к проблеме типологии игровых явлений // Народный театр. Л., 1974.
- Ивлева Л. М. Ряженье в русской традиционной культуре. СПб., 1994.
- Лихачёв Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984.
- Хейзинга Й. Homo Ludens. М., 1992.