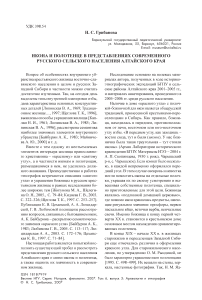Икона и полотенце в представлениях современного русского сельского населения Алтайского края
Автор: Грибанова Н.С.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Сибири
Статья в выпуске: 3 т.6, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736894
IDR: 14736894 | УДК: 398.54
Текст статьи Икона и полотенце в представлениях современного русского сельского населения Алтайского края
Вопрос об особенностях внутреннего убранства крестьянского жилища восточно-славянского населения в целом и русских Западной Сибири в частности можно считать достаточно изученным. Так, на сегодня день выделены типы внутренней планировки избы, дана характеристика основных конструктивных деталей [Липинская В. А., 1969; Традиционное жилище…, 1997; Щеглова Т. К., 1996], выявлены способы украшения жилища [Каплан Н. И., 1961; Липинская В. А., 1985; Липинская В. А., 1996], рассмотрена семантика наиболее значимых элементов внутреннего убранства [Байбурин А. К., 1983; Майниче-ва А. Ю., 2000] и т. д.
Вместе с тем одному из неотъемлемых элементов интерьера жилища православного христианина – «красному» или «святому углу», а в частности иконам и полотенцам, размещавшимся в нем, не уделялось должного внимания. Преимущественно в работах этнографов встречаются описания «святого угла» и украшения божницы в русском крестьянском жилище в рамках исследования более широких тем [Жигунова М. А., Шелеги-на О. Н., 2005., С. 79–84; Кидяева Г. В., 2003. С. 322–326; Щеглова Т. К., 1997. С. 253–257]. Публикации К. В. Цеханской, А. А. Люцидар-ской, Г. В. Любимовой посвящены рассмотрению вопросов, связанных с бытованием икон, А. К. Байбурина – раскрытию семиотического значения «красного угла» [Байбурин А. К., 1983; Любимова Г. В., 2005. С. 113–117; Лю-цидарская А. А., 2003. С. 172–176; Цеханс-кая К. В., 1997. С. 71–84].
Настоящая работа является попыткой восполнить существующий пробел и рассмотреть представления русского сельского населения Алтайского края о связи иконы и полотенца, а также оценить их значимость в современном жилище.
Исследование основано на полевых материалах автора, полученных в ходе историкоэтнографических экспедиций БГПУ в сельские районы Алтайского края 2001–2005 гг., и материалах анкетирования, проведенного в 2005–2006 гг. среди русского населения.
Наличие в доме «красного угла» с полоч-кой-божничкой для икон является общерусской традицией, принесенной крестьянами-переселенцами в Сибирь. Как правило, божница, находилась в переднем, противоположном от печи, восточном или юго-восточном углу избы. «В переднем углу, как заходишь – восток сюда, тут и были ( иконы ). У нас бож-ничка была такая треугольная – тут стояли иконы» (Архив Лаборатории исторического краеведения БГПУ. Материалы ИЭЭ – 2004 г. А. П. Скопинцева, 1930 г. рожд. Чарышский р-н, с. Чарышское). Если комнат было несколько, в каждой непременно оформлялся передний угол. В этом случае свекровь и невестка могли поместить иконы на отдельные полочки, украшая их по своему усмотрению и вывешивая собственные полотенца, специально приготовленные для этой цели. Божницы являлись «подлинной домашней церковью», где помимо икон хранились предметы, имеющие ритуальное значение: просфоры, первое пасхальное яйцо, веточки вербы, венчальные свечи. Именно божница к концу первой четверти XX в. становится в крестьянском доме основным местом нахождения орнаментированных полотенец.
В конце XIX – начале XX в. в жилищах старожилов и переселенцев Западной Сибири еще отмечались различия в оформлении красного угла. Для старожильческого населения, по утверждению О. М. Рындиной, не было характерно украшение икон полотенцами [1995. С. 498–499]. Их вешали на стены, зеркала, настенные фотографии. Так, Н. М. Яд-
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2007. Том 6, выпуск 3: Археология и этнография © Н. С. Грибанова, 2007
ринцев и М. В. Швецова, посетившие селения старообрядцев-поляков в конце XIX в., при описании внутреннего убранства их домов не упоминают о наличии полотенец на божнице [Швецова М. В., 1899. С. 28; Яд-ринцев Н. М., 1879]. У переселенческого населения, напротив, основным местом нахождения рушников являлись иконы и передний угол. По словам А. С. Харламовой, «икона у каждой избе была. А на иконе всегда висело полотенце, не снимали. Ну, сымуть – другую повесють» (Личный архив автора. А. С. Харламова, 1908 г. рожд. Усть-Калманский р-н, с. Васильевка).
Ко второй четверти XX в. полотенца уже вешали на иконы повсеместно, независимо от этнографической принадлежности и материального достатка. Полотенце висело в красном углу в течение всего года, перед большими церковными праздниками и после побелки его стирали или заменяли чистым. У русского населения Алтайского края отмечается обрамление божницы и иконы одним орнаментированным полотенцем. При этом полотно сворачивали вдвое по длине и помещали на икону сверху, свисающие концы, расправляли, чтобы был виден узор. В некоторых селах украшенные концы полотенец закрепляли деревянными рейками (Архив Лаборатории исторического краеведения БГПУ. Материалы ИЭЭ – 2004 г. А. Т. Латышева, 1928 г. рожд. Новичихин-ский р-н, с. 10 Лет Октября), в других – внутренние углы заворачивали в середину, «чтобы икона была как бы в платке подвязана», а внешние расправляли (Архив Лаборатории исторического краеведения БГПУ. Материалы ИЭЭ – 2004 г. В. К. Капустина, 1929 г. рожд. Усть-Калманский р-н, с. Васильевка).
Для красного угла выбирали наиболее богато украшенные полотенца, предназначенные исключительно для этой цели. Как правило, девушки начинали заниматься подготовкой таких полотенец задолго до замужества, поскольку в ходе свадебного обряда демонстрация трудолюбия и мастерства невесты занимала особое значение. Для этого сваха развешивала полотенца невесты по стенам избы, непременно начиная с красного угла. «Если какая богатая невеста – все стены завешают, а какая – не умея вышивать, так она ничё не пове-ся. …тогда ведь по полной хате народу набивалось – глядеть свадьбу. Такая мода была!» (Архив Лаборатории исторического краеведения БГПУ. Материалы ИЭЭ – 2004 г. Е. С. Чу- вакина, 1912 г. рожд. (родители привезены из России), Усть-Калманский р-н, с. Усть-Кал-манка).
В современной этнографической литературе общепринятым является положение об использовании полотенца с целью украшения иконы или божницы [Кидяева Г. В., 2003. С. 325; Цеханская К. В., 1997. С. 80; Щеглова Т. К., 1996. С. 105]. При этом истоки этой традиции неясны и объясняются исследователями по-разному. По мнению В. В. Цеханской, «…украшение икон полотенцами ведет свою историю с глубокой древности, когда появилась первая христианская икона “Спас на убрусе”. В русской традиции это день “Третьего спаса” (16 августа), когда в церкви вспоминают перенесение в 900 г. из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Спасителя. В народе праздник называют “полотняным”, или “Спасом на холстах”, “холщовым”. В некоторых местах Сибири и Центральной России в этот день освещали домотканые полотна. Это церковное чествование святого убруса т. е. того “четверосвитого” полотна, на котором нерукотворно отпечатался Божественный лик Спасителя для благочестивого царя Авгаря, в народном быту соединилось с торгом полотнами» [Цеханская К. В., 1997. С. 80].
В. А. Руднев связывает происхождение данной традиции с женским персонажем славянской мифологии: «В числе наиболее почитаемых богов была и Мокошь – богиня воды, дождя, плодородия, покровительница льноводства, прядения и ткачества. В православии ее место заняла Параскева Пятница – “льня-ница”, которой приносили в жертву первые снопы льна и вытканные убрусы (полотенца). Отсюда пошел обычай украшать иконы и статуи святых полотняными убрусами» [Руднев В. А., 1989. С. 107].
На наш взгляд, неправомерно ограничивать роль полотенца в красном углу исключительно декоративной функцией. Несмотря на то, что орнаментированное полотенце в крестьянском быту часто выступало предметом украшения жилища, оно представляло собой один из важнейших атрибутов в традиционных обрядах жизненного цикла, где было наделено множеством ритуальных функций. К тому же связь иконы и полотенца отмечается не только в жилище, но и вне его. Так, при снятии иконы с божницы для благословления молодых или для переноса в новое жилище она непременно должна была быть помещена на полотенце или накрыта им. В ходе похоронного обряда полотенце вешали на икону и несли впереди процессии, а затем повязывали на надмогильный крест. Многочисленные случаи одновременного совместного использования иконы и полотенца позволяют предположить существование в народном сознании некой связи между ними.
Иконы, с богословской точки зрения, являются посредниками между теми, кто изображен, и теми, кто молится. Будучи своеобразным «окном» в иной мир реальности икона, с точки зрения верующих, соединяет собой оба мира – земной и горний – в единое Творение [Любимова Г. В., 2005. С. 113–114]. Полотенце нередко называют дохристианской иконой, поскольку семантика традиционных орнаментальных композиций, по мнению исследователей, связана с мифологическими представлениями восточных славян. Более того, Л. М. Русакова усматривает в структуре конца полотенца, отражение деления мира на три сферы по вертикали: «мир умерших предков», «мир людей и всего живого» и «верхнюю небесную сферу» [Русакова Л. М., 1987. С. 99–125]. При этом мотивы традиционного орнамента, цветовое решение и технические приемы позволяют одновременно разграничивать и объединять эти сферы в единое целое.
По мнению О. В. Лысенко и С. В. Комаровой, полотенце, размещенное в красном углу – сакральном пространстве жилища, где обитают покровители дома – «предки», «деды» и где обычно размещались иконы и ритуальная пища во время ритуалов жизненного цикла – выполняет функцию информационного канала, обеспечивающего связь между противоположными сферами мира [Ткань, 1992. С. 18]. Таким образом, икона и полотенце, используемые одновременно, вероятно, выполняют аналогичные функции и служат связующим звеном для живущих: первая – с миром божественным, вторая – с миром предков.
С целью получения данных, характеризующих сложившиеся представления современного сельского населения Алтайского края о связи иконы и полотенца, а также об их значении в современном жилище, было проведено анкетирование среди русских женщин православного вероисповедания 1914–1985 гг. рожд. В итоге удалось получить 97 анкет, из которых интерес представляют только анкеты
(78 шт.) респондентов, имеющих иконы (80 % всех опрошенных).
Анкетирование показало, что из 78 респондентов, имеющих иконы, только у четверых они расположены на божнице. Отсутствие полочки для икон в современном жилище связано с тем, что большинство домов респондентов было построено в 1850–1990-х гг., когда полочки-божницы уже не изготавливали, а иконы если и размещали на традиционном месте – в переднем углу, то закрепляли на гвоздиках.
В зависимости от наличия или отсутствия полотенца на иконе выделены две группы респондентов. Информанты первой группы (37 % от всех, имеющих в доме иконы) наличие полотенец на иконе объясняют: сложившейся традицией («так принято», «так велось», «такой обычай») – 48 % респондентов; декоративным назначением («для красоты», «для украшения») – 24 %; отмечают утилитарную роль («для прикрытия иконы») – 7 %; 14 % опрошенных не дали определенного ответа. Таким образом, полученные данные подтверждают второстепенную роль декоративной функции полотенца в представлениях современного сельского населения. Наиболее значимым является следование сложившимся традициям, сохранение «обычая», заведенного дедами.
У респондентов второй группы (63 %) иконы не занавешены полотенцем. При этом 10 % из них никогда не задумывались над этим, 10 % не считают нужным использование полотенца, 6 % опрошенных вывешивают старинные полотенца только в праздники, 4 % хранят их как память, 8 % имеют иконы малого размера, что исключает использование полотенца, 16 % не дали ответ на поставленный вопрос. Важно отметить, что только у 24 % респондентов, не имеющих полотенца на иконе, последняя расположена согласно традиции на кухне в противоположном от печи и (или) восточном углу, в других случаях местом расположения иконы являются детская комната, зал, спальня. Иконы при этом размещают преимущественно на стенах, на полочках, в стенных шкафах, на телевизоре, что само по себе уже исключает возможность использования полотенца.
Один ответ респондента первой группы – «полотенце обязательно к иконе», отражает сохранение представления о существующей между ними связи. При этом результаты анкетирования показали существование в народных представлениях взаимосвязи старинной иконы и орнаментированного полотенца домашнего изготовления. Так, 16 % респондентов, не вешающих полотенце на икону, объясняют это тем, что не имеют «старинного» полотенца; 6 % опрошенных считают, что новые иконы не стоит покрывать полотенцем («нет старинной иконы»). Устойчивый характер подобных представлений подтверждают и многочисленные полевые материалы. Особенное значение информанты придают материалу домашнего производства – льняному полотну и способу украшения – ручной вышивке, тканью, кружевоплетению. «Холста нет. А корявые (вафельная полотенечная ткань) не стоит вешать. Раньше холщовые вешали, их вышивали, кружева привяжут, там разошьют их – концы до половины – любо посмотреть было!» (Архив Лаборатории исторического краеведения БГПУ. Материалы ИЭЭ - 2003 г. П. Д. Золотухина, 1919 г. рожд. Бийский р-н, с. Новиково).
Но нередко, в силу устойчивости традиции, допускается использование полотенца, изготовленного из фабричной ткани (ситец, вафельная ткань), однако вышивка непременно должна быть ручной работы.
Таким образом, полевые исследования и проведенное анкетирование показали, что значительная часть современного сельского населения Алтайского края не только имеет представление об общерусской традиции размещения икон в святом углу и их убранстве орнаментированными полотенцами, но и продолжает следовать ей. Однако нарастает тенденция к утрате полотенца как неотъемлемого элемента интерьера жилища. Последнее, на наш взгляд, связано не столько с влиянием моды или отсутствием духовной связи между поколениями, сколько с утратой предметов, изготовленных в первой половине XX в. Потеря современным поколением навыков их производства в традиционной технике ткачества и украшения вышивкой, кружевом делает невозможным трансляцию культурных традиций в полном объеме и неизбежно влечет их трансформацию.