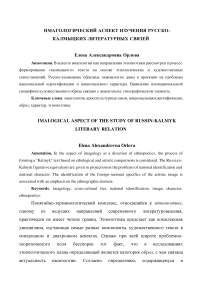Имагологический аспект изучения русско-калмыцких литературных связей
Бесплатный доступ
В аспекте имагологии как направления этнопоэтики рассмотрен процесс формирования «калмыцкого» текста на основе этнологических и художественных сопоставлений. Русско-калмыцкие образные эквиваленты даны в проекции на проблемы национальной идентификации и национального характера. Выявление инонациональной специфики художественного образа связано с акцентом на этнографическом элементе.
Имагология, кросскультурные связи, национальная идентификация, образ, характер, этнопоэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/149139520
IDR: 149139520 | УДК: 82(=161.1:=512.3)
Текст научной статьи Имагологический аспект изучения русско-калмыцких литературных связей
Понятийно-терминологический комплекс, относящийся к этнопоэтике, одному из ведущих направлений современного литературоведения, практически не имеет четких границ. Этнопоэтика предстает как комплексная дисциплина, изучающая самые разные компоненты художественного текста в синхронном и диахронном аспектах. Однако при всей широте проблемнотеоретического поля бесспорен тот факт, что в исследованиях этнопоэтического плана определяющей является категория образ, с чем связана актуальность имагологии. Согласно определению, содержащемуся в авторитетном справочном издании, имагология – общегуманитарная дисциплина, предметом изучения которой является «образное восприятие
“чужого” представителями разных культур (стран, народов)». Это могут быть образы, «объективированные в литературе» и в литературоведении, этнические и языковые стереотипы, культурологические представления друг о друге, сформировавшиеся в процессе межнационального диалога и т.п. [22, с. 122 – 123].
Важно также учесть, что в наши дни категория образа выходит за пределы эстетики и искусствоведения и становится важнейшей составляющей понятийно-терминологической системы многих гуманитарных наук. Историки, социологи, психологи и др. говорят об образах прошлого, образах исторической реальности, времени и пространства, образах власти, страны, региона, социальной группы и т.п. Историк-методолог Л.П. Репина выделяет «образы-события, образы-личности, образы-символы», «образы-концепции» [19, с. 9].
Массовое сознание давно наполнило национальный и инонациональные топосы образами-стереотипами. Мы считаем, что можно провести параллель между этностереотипами и «постоянными эпитетами», выделенными А.Н. Веселовским из «нередко бытового или этнографического предания». Постоянные эпитеты были охарактеризованы им как примеры окаменевшего содержания, а сам процесс окаменения назван вырастающим «за пределы собственно эпитета, когда оценка явлений известного порядка переносится на явления другого <…>» [4, с. 60, 65 – 66]. Этностереотип – тоже окаменевший образ, который формируется чаще всего на начальном поверхностно ознакомительном этапе установления коммуникативных связей. Однако подобно тому, как окаменевший эпитет наполняется в конкретном тексте «живым» содержанием, так и этностереотип в процессе углубления межнациональных контактов ослабляется в своей категоричной однозначности. Данный процесс характерен для всех национальных культур. Калмыкия – не исключение.
С этим регионом прочно связан образно-ассоциативный комплекс, относящийся к степному ландшафту и кочевому быту: степь, тюльпаны и лотосы, кибитка, кумыс, белый (калмыцкий) чай и т.п. Однако механизм формирования имиджа, основанный на стереотипных ассоциациях, часто кажется противоречащим элементарной логике и здравому смыслу. Приведем пример из книги Г.Д. Гачева, автора уникальных «интеллектуальных путешествий», «Национальные образы мира. Евразия - космос кочевника, земледельца и горца» (1999). В самом начале изложения воспроизведен эпизод из работы аспирантского семинара по «национальному пониманию мира в литературе» [5, с. 6]. Семинарские занятия проходили в формате «спектакля мышления» [5, с. 79], т.е. обмена мнениями автора (ведущего) с аспирантами МГУ. Здесь были представители разных национальностей из республик, некогда живших в едином государстве. Среди членов семинара упомянута безымянная «девушка-калмычка», но разговор об устройстве юрты, жилища кочевых народов, велся с Муратом Ауэзовым, этническим казахом. «Ауэзов. -Юрта круглая... Я. - А изба - четырехугольная <...>. Итак, юрта - круглая, и кочевник - круглоголов, а северянин, славянин - с более квадратной, угольной головой» [5, с. 14].
Конечно, подобный вывод к научно обоснованной антропометрии никакого отношения не имеет и в высшей степени субъективен. Но не случаен: именно субъективность является исходной точкой умозаключений философа о различных моделях национального «Психо-Космо-Логоса». Поэтому сам процесс зарождения инонационального имиджа в контексте субъективной рецепции показателен.
Как правило, физические отличия «монгольского» (калмыцкого) типа, «совсем от других отменные» [14, с. 217], подчеркивались всеми путешественниками. Однако часто точка зрения любопытствующего вояжера была обусловлена предубеждениями «цивилизованного» европейца по отношению к жителям степи («туземцам»), как, впрочем, и к коренному русскому населению центральной России. Например, голландец Ян Стрейс
(Стрюс, Струйс и т.п.), совершивший в 1669 г. поездку по степям Астраханской губернии, так описывал внешний вид калмыка: «безобразнее и страшнее всех людей»; «лицо в квадратный фут», «рот и глаза чрезвычайно велики» и пр. [21, с. 104]. О русских («московитянах», «московитах») он писал не менее оскорбительно. Кардинально противоположная ситуация зафиксирована в «Словаре живого великорусского языка» В.И. Даля. Лексикограф с определением калмыковатый создает портрет человека, «с лица» похожего на калмыка: «плосколицый, скулистый, с глазами особого покроя» [8, с. 79]. У Даля скорее всего это было обобщение на основе наблюдений российских этнографов, о которых пойдет речь ниже.
Можно говорить и о том, что описание этнотипа в научном тексте непосредственно сближается с созданием типического образа в художественной литературе. Ю.П. Платонов, автор работ по этнической психологии, подчеркивает, что первоначально изучение национального характера было «делом литераторов, этнографов и языковедов» [17, с. 20]. Этнологу, как и писателю, всегда важно совместить индивидуализацию с обобщением и представить персонифицированные образы народов. От ученого-этнографа во все времена требовались фиксация и осмысление того, что он видел сам, что стало предметом его непосредственного наблюдения и непредвзятого объективного анализа. В этом отношении название известного этнографического экскурса Н.А. Нефедьева показательно: « Подробные сведения о волжских калмыках: собранные на месте » (1834).
Действительно, своим становлением «калмыцкий» художественнолитературный текст, сформировавшийся к концу 1820-х – 1830-ым гг. (А.С. Пушкин, И.И. Лажечников, Е.А. Ган, отчасти О.И. Сенковский), во многом обязан именно информативно-нефикационному нарративу, сложившемуся на основе экспедиционных поездок П.С. Палласа, И.Г. Георги, И.И. Лепехина, Н.И. Страхова, Н.А. Нефедьева и др., а также материалов, содержащихся в деловых бумагах различного ранга государственных чиновников, знакомившихся с жизнью южного региона в силу служебных обязанностей.
Этнографические сочинения в этот период имели широкую читательскую аудиторию, о чем, в частности, свидетельствует рецензия В.Г. Белинского на вышеназванное сочинение Н.А. Нефедьева (1834).
Критик отметил не только полезность и глубину исследования, но и занимательность изложения: «Вот книга, появление которой должно радовать всякого благомыслящего читателя, сколько по ее внутреннему достоинству, столько и по редкости подобных книг в нашей литературе. Г-н Нефедьев описывает калмыков во всех отношениях: историческом, географическом, топографическом, политическом, религиозном <...>. Его книга может доставить пользу и удовольствие и записному ученому, и простому любителю чтения: тот и другой найдут в ней для себя богатую сокровищницу фактов для важных и любопытных результатов [2, с. 148].
Практически также сразу после опубликования трактат Нефедьева был тщательнейшим образом проштудирован Н.В. Гоголем. Причем штудирование проходило по двум направлениям. Во-первых, калмыцкий материал был необходим Гоголю-историку, адъюнкт-профессору Санкт-Петербургского университета. Во-вторых, он был интересен ему как автору «Вечеров на хуторе близ Диканьки», ставших популярными (помимо прочего) благодаря этнографической экзотике.
Этнологические наблюдения включались Гоголем в сложную историософскую концепцию, сформировавшуюся на основе трудов И.Г. Гердера, Г.Ф. Миллера, А.Л. Шлёцера. Согласно ей, история любого народа -органическая часть всемирной истории, отражающей развитие всего человечества. С этой точки зрения роль калмыцкого народа, по логике писателя, равноценна роли германцев, гуннов, аваров, франков и прочих национальных общностей, великим переселением которых Европа обязана своей цивилизацией. Не менее существенно, что статья «О движении народов в конце V в.», для которой Гоголю и понадобился калмыцкий фрагмент, была опубликована через год в сборнике «Арабески», объединившем в единое целое эссе по истории, литературе и искусству с «петербургскими» повестями «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего».
Под таким «двойным» углом зрения и написан очерк «Калмыки», задуманный как составная часть книги «Земля и люди». Описанию мировоззренческих основ жизненного уклада кочевого народа гоголем предпослана географическая справка с характеристикой климатических условий: «Почва степей, занимаемых ими, песчана, солонцовата и иловатоглиниста. Везде следы подводного состояния, исчезающие с приближением к высотам, назыв<аемым> иргенями». Указаны точные реалии: священная гора Богда (Богдо), «большое Баскунчатское озеро» и т.п. [7, с. 226]. Такое географическое вступление закономерно, поскольку географию Гоголь считал частью исторической науки. Что же касается нравоописательства, то оно часто предлагалось им в формате жанровых зарисовок, не лишенных мягкого юмора: «Утро начинается тем, что калмычки идут доить коров, а другие с мешками на плечах отправляются за пометом в поле и к колодцам за водою. Калмыки выгоняют стада на паству и водопой. После обеда у котла сво<е>й кибитки жены принимаются за бабьи ремесла, а мужья ничего не делaют, сидят, поджавши ноги, перебирают четки, курят, или таскаются по чужим кибиткам, нет ли где мяса или чего иного поесть друг друга» [7, с. 229] . Или такая картина, достойная кисти живописца: «Дети калмыков, калмыченки, качаются на верблюдах в мешках и коробах, привязанных в числе вьюков и обложенных внутри кошмами и овчинами; из них видны одни только головы калмыченков. Старики и стаpyxи на самом верху тоже среди вьюков. Молодые калмыки и калмычки, разодетые, на лучших лошадях, опережают друг друга в бегах (кокетничают)» [7, с. 228 – 229].
В итоге создается образ калмыка, смуглого, черноволосого, «широкоскулистого», «быстроглазого», статного, среднего роста, ловкого на лошади и неуклюжего в ходьбе, отчасти суеверного, любопытного, верящего в чудеса и «охотника до сказок [7, с. 229 – 234].
Проекция данных установок на анализируемый материал позволяет увидеть в этнографическом тексте данного периода корни художественного народознания , связанного в дальнейшем c творчеством Д.В. Григоровича, И.С. Тургенева, Н.Г. Помяловского, Н.В.Успенского, В.А. Слепцова, А.И. Левитова и др. «Литература на этом этапе развития реализма всячески подчеркивает свою близость к научности. Ценит достоверность прежде всего», – пишет А.И. Журавлева [11, с. 146].
«В свете изучения типологии реализма вопросы этнографизма , этнографического направления , этнографической школы представляются весьма значительными», – считает А.Л. Фокеев, говоря о необходимости обратиться к изучению роли этнографического направления в становлении реализма как художественного метода. «Этнографизм придаст особый характер реализму, может явиться одним из факторов его типологической разновидности, а также основанием для выделения определённых типов художественного мышления писателей, жанровой специфики и поэтики литературных произведений» [23, с. 10]. Без преувеличения можно сказать: в данном процессе калмыцкому материалу отводится значительное место. Все эти вопросы имеют непосредственное отношение к этнопоэтике в целом и проблемам художественной имагологии в частности.
Конечно, антропометрические измерения любого этнического типа, будучи данными от природы, не могут быть индивидуально скорректированы. Но А.А. Бодалев ввел понятие «оформление внешности» [3, с. 138]. К способам такого оформления следует отнести, например, убранство волос. Это подчеркнуто всеми учеными-этнографами, писавшими о Калмыкии. «Они подбривают свои волосы кругом. Оставляя только на челе, которые заплетают в косу. Женщины и девицы заплетают свои волосы в две косы, которые попускают по плечам» [14, с. 227]. Описания Н.А. Нефедьева и Н.И. Страхова в этом отношении еще более пространны и детализированы.
Но особенно высокой степенью семиотичности обладает, как известно, национальный костюм. Поэтому закономерно, что он играет важную роль в плане имагологии. Кроме того, в России 1830-х – 1840-х гг. интерес к данной проблеме приобрел остроту именно в связи с вопросами национальной идентификации и самоидентификации.
Заметим, что Пушкин еще в 1822 году связывал сохранение «древнего порядка вещей» в народной среде с внешними атрибутами: «Народ, упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр» [18, т. 8, с. 125]. В дальнейшем вопрос о внешних способах выражения «мыслей и чувствований», через которые передается «дух народа», приобрел партийноидеологическую остроту. Отказ от сюртуков, шляп, фраков и прочих атрибутов европейских нарядов в пользу зипунов, косовороток, сапог, сарафана и русского кафтана, т.е. традиционного национального платья – одно из программных заявлений славянофилов. А.И. Герцен характеризовал атмосферу московских салонов 1840-х гг. как «деятельное участие за мурмолки и против них» [6, т. 9, с. 156]. Имидж дворянина, облаченного по старинке, был столь странен и экзотичен, что К.С. Аксакова на улицах принимали за персиянина. Однако, иронически приводя этот ставший общеизвестным с легкой руки П.Я. Чаадаева факт, сам Герцен также прибегает к «костюмным» образам: «Но история возвращается; жизнь богата тканями, ей никогда не бывают нужны старые платья» [6, т. 9. с. 148].
Но дело не только в знаковой природе национального платья. В русском языке обозначение одежды словом добро имеет религиозные (библейские) корни. «Крепость и красота – одежда ее <…>» – сказано в Притчах Соломона (гл. 31, ст. 25); «Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир <…>» – призывал апостол Павел (Еф.: гл. 6, ст. 14 – 15). Возведя в заглавии своего произведения на уровень имени собственного носильную вещь («Шинель»), Гоголь продолжил эту линию. Не случайно он выписывает фрагмент из книги Н.А. Нефедьева, в котором сказано про калмыка: «Одет зимою в овчинный тулуп, летом в китайчатый кафтан или чапан, опоясанный китайчатым поясом.
Шапка большею частью желтая с узким меховым околышком, иногда войлочная маленькая шляпа, то и другое с красной кистью наверху» [7, с. 229 – 230]. Красная кисть { улан зала } является этническим маркером калмыков, отличающим их от других монгольских народов и сохранившим сакральное значение по сей день. «Несомненно, что и красный цвет кисти, и нахождение ее на макушке головного убора связаны с понятиями жизненности, обеспечения потомством, кровного родства, а также с предками, с солярной символикой» – отмечает современный историк [25, с. 187]. Впрочем, о символическом значении улан зала также говорил Н.А. Нефедьев, давший подробнейшее описание калмыцких головных уборов: «Кисти сии служат не токмо для украшения, а составляют какой-то особый религиозный символ весьма уважаемый» [16, с. 140].
Знаковый характер одежды побуждал российских этнографов внимательно вглядываться в калмыцкое облачение и видеть в нем не экзотику, поражающую воображение, но соответствие кочевому образу жизни и отражение уровня благосостояния народа. И.И. Лепехин, в частности, подчеркивал, что калмыки «не только хорошее суконное, но и шелковое имеют платье». И особенно поразил ученого, хорошо знакомого с крестьянской Русью, тот факт, что среди калмыков он не видел ни одного, кто «бы носил лапти, как Мордва, Чуваши и Татара, но все имеют сапоги» [14, с. 219]. Все это создавало весьма привлекательный имидж «степного народа» [16, с. 141].
Имагологические исследования, исходя из конкретного (узкого) толкования понятия образ (имидж), в конечно счете ориентированы на формирование обобщенных представлений. Если в узком смысле слова образ – это персона, субъект, лицо, то в широком – неперсонифицированные понятийно-чувственные реалии, включенные в сложный процесс ментального и художественного отражения действительности. К последним относится категория национальный характер .
В наши дни в изучении национального характера выделяют несколько аспектов: этнографический (описание быта, нравов, образа жизни народа), психологический, лингвистический (сравнительный анализ языка), культурноисторический (картина мира, традиции, основные ментальные и поведенческие модели и т.п.). Лингвисты также прибегают к понятию «лингвокультурный типаж», под которым имеется в виду «узнаваемый образ представителя определенной культуры, совокупность которых и составляет культуру того или иного общества» [13, с. 8].
В 1830 – 1830-е гг. широко употребительными стали понятия «дух народа», «дух нации», «национальное чувство», «субстанция» народной (национальной) жизни и т.п. В них интегрировались отдельные характерологические проявления без какой-либо дифференциации. Подобная интегративность была присуща и представлениям о «физиономии народа». В частности, А.С. Пушкин считал, что «климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию». Это «образ мыслей и чувствований», «тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу» [18, т. 7, с. 39 – 40]. Данным понятием широко пользовался В.Г. Белинский, связывая с ним проблему народности. «Что такое народность в литературе? Отпечаток народной физиономии, тип народного духа и народной жизни <…>», – писал он в «Литературных мечтаниях» (1834), сближая, подобно многим своим современникам, народность с национальностью и, следовательно, «народную физиономию» с «национальной физиономией» [2, с. 92]. Н.И. Надеждин использовал словоупотребление в плане соотношения общечеловеческого и национального: «Различие народов состоит во множестве частных оттенков одной и той же природы человеческой, которых совокупность составляет так называемую народную физиономию, или, в более тесном значении, относительно только внутренних, духовных свойств, народный характер» [15, т. 2, с. 781]. Все эти суждения не утратили своей актуальности в наши дни и явились основой кросскультурного компаративизма, который позволяет дать описание инонациональных явлений по принципу нравственно-психологической доминанты.
Так, гостеприимство – черта, присущая большинству народов, но русского человека поражало отсутствие сословных различий для гостя у калмыков. Гоголь отмечал: «Нравом калмык гостеприимен и подельчив. В обращении ровен и с богатым, и с бедным. Бедный может зайти в любую кибитку и подсесть к хозяйскому котлу, ему поднесут чашку наравне с другими. Если калмык, получил что-нибудь в подарок, деньги, пищу, табак, тотчас разделится поровну с товарищами, которые тут найдутся. <…>» [7, с. 230].
Процесс политического и социально-экономического, тем более культурного освоения новых земель предполагает межнациональный диалог, который имеет опору в национальном менталитете. «Ментальность можно определить как сформированную под влиянием географических и социокультурных факторов систему стереотипов поведения личности, ее чувственно-эмоциональных реакций и мышления, являющуюся выражением иерархически соподчиненных приоритетов и культурных ценностей», – пишет философ [10, с. 13]. П ервостепенную роль в формировании национальной ментальности, как известно, играла и играет религия. Более того, именно с активизацией изучения религиозной проблематики в искусстве во многом связано становление этнопоэтики как научной дисциплины. В.Н. Захаров считает абсолютно обязательным ответ на вопрос: что «делает русскую литературу русской». Самим ученым вопрос однозначно решается в пользу православия [12, с. 9].
Обращение к авторитету Ф.М. Достоевского закономерно. Писатель был убежден, что борьба «за русскую правду, за русскую особь, за русское начало» [9, с. 40] невозможна вне христианства. Православное вероисповедание, по его мнению, не противопоставляет русского человека другим нациям, но, напротив, порождает «всечеловечность» как «главнейшую личную черту и назначение русского», «национальную русскую особенность» [9, с. 31]. Впрочем, что касается русского «образа мыслей», то еще Пушкин был убежден: «греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер» [18, т. 8, с. 130].
Освоение кавказского, среднеазиатского, Забайкалья, некоторых районов Восточной и Западной Сибири, т.е. регионов с исконно неправославным населением, предполагало постижение основ исламизма и буддизма. И это постижение носило многоступенчатый характер.
Что касается калмыцкого (тибетского) буддизма (ламаизма), то для ознакомления с ним большое значение имела деятельность Академической экспедиции (1768 – 1774): сбор общих сведений о религии ойратов, коллекционирование памятников монгольского письма, подробные описания культовых сооружений, формирование коллекции сакральных и ритуальных предметов для Кунсткамеры и другие материалы. И тем не менее Н.А. Нефедьев писал, что о «религии Калмыков напрасно было бы искать известий, вполне удовлетворительных <…>» [16, с. 143].
Невозможно не учитывать и тот факт, что в вопросы вероисповедания активно вмешивалось государство. В 1834 г. вышло «Положение об управлении калмыцким народом», согласно которому буддийское духовенство было полностью подчинено Российской администрации. Параллельно шел процесс христианизации народа, обращения его в православную веру. И он был далеко не однозначным. С одной стороны, безусловным заслуженным авторитетом пользовался протоирей Андрей Чубовский, благочинный Ставрополя и калмыцких приходов, чья деятельность приходится на вторую половину XVIII века. С другой – И.И. Лепехин считал нужным познакомить читателей со ставропольским протопопом отцом Дубовским, который, будучи «искусным» в калмыцком языке, искал в улусах «калмыцкие подлости», т.е. «развращенные книги». «Если у кого такие книги найдутся, то отец протоиерей имеет власть не только отнимать такие книги, но по духовенству и наказывать плетьми» [14, с. 232].
Поэтому русским обществом образ калмыка-буддиста в течение длительного промежутка времени понимался упрощенно, в ореоле экзотики. В частности В.Г. Белинский считал «самыми занимательнейшими» страницами книги Н.А. Нефедьева фрагменты, посвященные буддийскими ритуалам и краткому изложению основ ламаизма [2, с. 148]. Понимая, что космогонические представления народа полежат «особому изъяснению» Нефедьев, избегал дифференциации буддистских и языческих элементов [16, с. 150]. Российский читатель мог в сказочном ключе воспринимать, например, старинное поверье о трех дорогах (золотой, серебряной, железной), по которым идут души благочестивых и грешников на сорок девятый день после смерти. Не случайно Н.В. Гоголь на основе изучения данных материалов отметил охоту калмыка «до сказок», его способность «верить чудесному»: «Иногда дня по три сряду слушает предания о подвигах сказочных героев, которых очень любит» [7, с. 234].
Однако сам Н.А. Нефедьев детали, казавшиеся сказочно-экзотическими, интерпретировал в культурно-историческом контексте, поскольку глава о калмыцком вероисповедании включалась им в раздел «История мира» . В своих умозаключениях этнограф опирался прежде всего на то, чему был очевидец, и даже прилагал рисунок с изображением молящихся, «снятый с натуры» [ 16, с. 173]. Объяснения же духовных лиц, к которым обращался ученый, «большею частию» были «разнообразны, сбивчивы и неудобопонятны» [16, с. 173]. Тем не менее Гоголь пришел к выводу: «В религии калмыков таятся слишком замечательные начала, говорящие много о внутренней силе этого беспечного народа» [7, с. 231].
Более того, конкретный этнографический материал наглядно обнаруживал в религиозном мироощущении кочевника-буддиста аксиологическую соотнесенность с христианством. «Десять правил веры», которые Н.И. Страхов присовокупил к описанию «нынешнего состояния калмыцкого народа» (1810), явно соотносились с десятью заповедями Нагорной проповеди. Среди них: «Поклоняйся Богу, повинуйся Духовенству и исполняй святой закон. Сия Благословенная Троица, сохранит тебя во все путях»;
«Утешай страждущих, помогай бедным, никого не презирай и не осуждай». Или: «Убегай гордости как душевной погибели» и т.п. [20, с. 64 – 65].
Закономерно поэтому, что современные религиоведы подходят к буддизму с позиций теории всеединства, развитой в трудах русских религиозных философов начиная с Вл. Соловьева. Рассмотрение ситуации освоения буддизма в культуре России высвечивает важную, по мнению философов, «философско-культурологическую проблему – проблему понимания и нахождения общих смыслов в различных обществах и культурах» [24, с. 45].
Что касается отражения мировоззренческих и ритуальных аспектов буддистского вероисповедания в русской словесности, то их изучение, как и изучение общих проблем по теме «Литература и религия», значительно актуализировалось в последние десятилетия. Однако исследователи говорят в основном о связях русской культуры с культурой японской, китайской, индийской как выражением буддистской и даосской философии и этики. Непосредственным материалом для сравнительно-сопоставительного анализа чаще всего является творчество Л.Н. Толстого, И.А. Бунина, авторов Серебряного века, а также В. Хлебникова, А. Платонова, И. Бродского, Ю. Мамлеева и др. Казанский ученый Р.Ф. Бекметов считает возможным отметить наличие «буддийского текста» в русском литературном сознании 1830 – 1860-х гг., и традиционный список имен обновлен им за счет А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова, А.А. Фета. Но исследователем все же имеются в виду дзэн-буддизм и чань-буддизм [1]. Ссылки же на калмыцкий (тибетский) извод буддизма, к сожалению, отсутствуют. Несколько восполняет данный пробел учебное пособие преподавателей Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова под редакцией Р.М. Ханиновой («Рецепция и репрезентация калмыцкой культуры в русской литературе XIX – XX веков», Элиста, 2013).
Как известно, отечественными филологами выделен и систематизирован категориально-понятийный аппарат, характеризующий классическую словесность в этноконфесиональном (православном) отношении: соборность, пасхальность, христоцентризм, элементы исихазма, вера в чудо, упование на милость Всевышнего и др. Эти черты по -разному и в разной степени проявляются в творчестве конкретных авторов, что является объектом изучения в наши дни. Что касается буддизма, то, во-первых, его понимание в изучаемый период сводилось к идее реинкарнации, которая сопоставлялась с христианским учением о бессмертии, и, во-вторых, к представлениям о буддисте как человеке вне мира сего. Можно сослаться на А.И. Герцена, создавшего в статье «Буддизм в науке» (1843) образ ученого-буддиста.
Статья интересна во многих отношениях и прежде всего тем, что основному тексту предпосланы эпиграфы из Евангелия и «Соборного послания» ап. Иакова: «Погубящий свою душу найдет ее», «Вера без дел мертва». Однако сам автор в своей критике буддизма как формы научного дилетантизма выступает с атеистических позиций. Буддист, по мнению Герцена, это человек примиренный , усмиривший себя, исходящий из тезиса: «Личности надобно отречься от себя для того, чтоб сделаться сосудом истины, забыть себя, чтоб не стеснять ее собою <…>» [6, т. 3, с. 67]. Конечно, данная позиция, которая, по мнению Герцена, лежала в основе буддистского мировоззрения в целом, была абсолютно чужда будущему издателю «Колокола». Он даже писал о «вине буддистов», для которых Будда - «именно отвлеченная бесконечность, ничего» [6, т. 3, с. 76]. Подобное неприятие теории пассивного созерцания определило идейно-тематическую направленность художественного творчества Герцена 1840-х гг.
Таким образом, мы приходим к выводу, что имагологический аспект изучения «калмыцкого» текста, представленного в русской культуре первых десятилетий XIX века большей частью этнографическим материалом, позволяет сделать вывод о его значительном художественном потенциале.
Список литературы Имагологический аспект изучения русско-калмыцких литературных связей
- Бекметов, Р. Ф. Русская литература 1830–60-х годов в зеркале восточных (буддийских и даосских) традиций: диссерт. …доктора филологических наук / Р. Ф. Бекметов. – Казань, 2019. – 411 с.
- Белинский, В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 1 / В.Г. Белинский. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – 574 с.
- Бодалев, А. А. Восприятие человека человеком / А.А. Бодалев. – М.: Изд. дом «Энциклопедист-Максимум»; СПб.: Изд. дом «Мiръ», 2015. – 240 с.
- Веселовский, А. Н. Историческая поэтика / А.Н. Веселовский. – М.: Высшая школа, 1989. – 404 с.
- Гачев, Г. Д. Национальные образы мира. Евразия – космос кочевника, земледельца и горца / Г.Д. Гачев. – М.: Институт ДИДИК, 1999. – 368 с.
- Герцен, А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. /А.И. Герцен. – М.: Изд-во АН СССР, 1954 – 1958. Т. 3. – 1954 – 363 с.; Т. 9. – 1956 – 354 с.
- Гоголь, Н. В. Калмыки. Этнографический очерк / Н. В. Гоголь // Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 9-ти т. Т. 8. – М.: Русская книга, 1994. – С. 226 – 234.
- Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 2 / В.И. Даль. – М.: Госиздат иностранных и национальных словарей, 1955. – 779 с.
- Достоевский, Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 23 / Ф.М. Достоевский. – Л.: Наука, 1972 – 1990. – 423 с.
- Еромасова, А. А. Ментальность русского человека как феномен национальной культуры: философско-антропологический анализ: автореферат дис. ... доктора философских наук / А.А. Еромасова. – СПб., 2007. – 42 с.
- Журавлева, А. И. Кое-что из былого и дум: О русской литературе XIX века / А.И. Журавлева. – М.: Изд-во МГУ, 2013. – 272 с.
- Захаров, В. Н. Русская литература и христианство / В.Н. Захаров // Евангельский текст в русской литературе XVIII – XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Сб. науч. тр. – Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 1994. – С. 5–11.
- Карасик, В. И., Дмитриева, O. A. Лингвокультурный типаж: к определению понятия / В. И. Карасик, О. А. Дмитриева // Аксиологическая лингвистика: лингвокультурные типажи: сб. науч. тр. / под ред. В. И. Карасика. – Волгоград: Парадигма, 2005. – С. 5 – 25.
- [Лепехин, И. И.] Дневные записки путешествия доктора и академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям российского государства в 1768 и 1769 году. – СПб., Императорская АН, 1771. – 573 с.
- Надеждин, Н. И. Соч.: В 2 т. Т. 2. / Н. И. Надеждин. – СПб.: Изд-во РХГИ, 2000. – 973 с.
- Нефедьев, Н. А. Подробные сведения о волжских калмыках, собранные на месте Н. Нефедьевым / Н. А. Нефедьев. – СПб.: тип. К. Крайя, 1834. – 309 с.
- Платонов, Ю. П. Психология национального характера / Ю. П. Платонов. – М.: Академия, 2007. – 233 с.
- Пушкин, А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. / А.С. Пушкин. – М.: Изд-во АН СССР. 1957 – 1958. Т. 7. – 1958. – 560 с.; Т. 8. – 1958 – 660 с.
- Репина, Л. П. Образы прошлого в памяти и в истории / Л. П. Репина // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени / Отв. ред. и сост. Л. П. Репина. – М: Кругъ, 2003. – С. 9–18.
- Страхов, Н. И. Нынешнее состояние калмыцкого народа, с присовокуплением калмыцких законов и судопроизводства, десяти правил их веры, молитвы, нравоучительной повести, сказки, пословиц и песни / Н. И. Страхов. – СПб.: Тип. Шнора, 1810. – 95 с.
- [Стрюйс Я.]. Путешествие по России голландца Стрюйса // Астраханский сборник, издаваемый Петровским обществом исследователей Астраханского края. Вып. 1. – Астрахань, 1896. – С. 104 – 131.
- Теория и методология исторической науки: терминологический словарь / Отв. ред. А. О. Чубарьян, Л. П. Репина. – М.: Аквилон, 2016. – 543 с.
- Фокеев, А. Л. Этнографическое направление в русском литературном процессе XIX века: Истоки, тип творчества, история развития: автореферат дис. ... доктора филологических наук А. Л. Фокеев. – М., 2004. – 46 с.
- Чемурзиев, А. У. «Оправдание буддизма» с точки зрения всеединства и восхождения к всечеловеческой культуре / А. У. Чемурзиев // Соловьевские исследования. – Иваново: Ивановский гос. энергетический ун-т, 2010. – С. 41 – 49.
- Шараева, Т.Г. К вопросу об этнических маркерах калмыков: улан зала / Т.Г. Шараева // Монголоведение (Mongolian Stadies). – 2017. – С. 181 – 190. 24. Фокеев, А. Л. Этнографическое направление в русском литературном процессе XIX века: Истоки, тип творчества, история развития: автореферат дис. ... доктора филологических наук. – М., 2004. – 46 с. 25. Чемурзиев, А. У. «Оправдание буддизма» с точки зрения всеединства и восхождения к всечеловеческой культуре // Соловьевские исследования. – Иваново, 2010. – С. 41 – 49.
- Шараева, Т. Г. К вопросу об этнических маркерах калмыков: улан зала / Т. Г. Шараева // Монголоведение (Mongolian Stadies). – 2017. – С. 181 – 190.