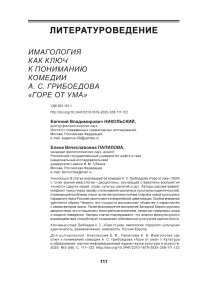Имагология как ключ к пониманию комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»
Автор: Никольский Е.В., Папилова Е.В.
Журнал: Культура и образование @cult-obraz-mguki
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3 (58), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824) с точки зрения имагологии – дисциплины, изучающей стереотипы восприятия «чужого» (других наций, стран, культур, религий и др.). Авторы рассматривают конфликт пьесы через призму столкновения различных культурных идентичностей, отражающий проблемы эпохи, включая противостояние старой и новой культурных парадигм и поиск Россией своего места в европейской цивилизации. Особое внимание уделяется образу Чацкого, его чуждости московскому обществу и параллелям с самим автором пьесы. Также анализируется восприятие Западной Европы русским дворянством, его отношение к иностранным влияниям, таким как гувернеры, мода и модели поведения. Авторы статьи подчеркивают, что анализ межкультурного взаимодействия способствует пониманию собственной культурной идентичности.
Грибоедов А. С., «Горе от ума», имагология, стереотип, культурная идентичность, взаимовлияния, инаковость, Россия-Европа
Короткий адрес: https://sciup.org/144163581
IDR: 144163581 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.2441/2310-1679-2025-358-111-122
Текст научной статьи Имагология как ключ к пониманию комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»
Имагология как наука занимается изучением восприятия других народов и представлений о других культурах, и этот подход являет собой мощный инструмент для анализа художественных произведений, таких как комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума». В центре пьесы лежит столкновение различных культурных идентичностей, что является отражением более широких проблем того времени – от противостояния старой и новой культурной парадигмы до поиска Россией своего места в контексте Европейской цивилизации. Грибоедов, зная западные реалии, сумел показать через образы и стереотипы, что культура чуждого может быть как притягательной, так и угрожающей, как она отражается в восприятии русских персонажей, стремящихся осмыслить свою идентичность.
Тема чуждости и инаковости – центральная в «Горе от ума», поскольку она затрагивает не только различие между «своим» и «чужим», но и более глубокие вопросы существования, самосознания и выживания на стыке различных культур. Пьеса становится не просто комедийным произведением, но важным культурно-историческим текстом, где Грибоедов, как художник своего времени, осмысливает место России в Европе и её взаимодействие с Западом, а также – внутренние процессы самоопределения, которые приводят к культурному и социальному кризису.
О Чацком, вернувшемся из-за границы, графиня бабушка говорит, что он «пошел в пусурманы » («Да!.. в пусурманах он! Ах! Окаянный вольтерьянец !», действие 3, явление 20). В этой реплике графиня бабушка демонстрирует характерное для своего времени предвзятое восприятие всего, что выходило за пределы традиционной православной веры. Слово «пусурма-ны» в данном контексте является стереотипным и даже оскорбительным выражением, использующимся для обозначения людей, исповедующих ислам, и, как подчеркивают современные исследователи [2, c. 121], это слово связано с предвзятым восприятием восточных религий в российской культуре того времени.
Графиня, видя в Чацком проявления западных идей, таких как приверженность Вольтеру (вольтерьянство), сразу ассоциирует это с чем-то «неправильным», «чуждым». Она считает, что как и те, кто отвергает православие в пользу иной веры, Чацкий, отказавшийся от устоявшихся традиций и ценностей, совершает предательство, что фактически означает падение. Это восприятие Чацкого как еретика или человека, сбившегося с пути, является примером глубокой культурной и религиозной замкнутости, присущей многим персонажам пьесы.
Такое отношение графини к Чацкому раскрывает проблему того времени – конфликт между старым и новым, между западным прогрессивным мышлением и консервативными устоями, которые воспринимались как «истинные». В данном случае Чацкий не просто инакомыслящий человек, а символ «инородных» (внешних) влияний, угрожающих традиционному российскому обществу. Восприятие его как «пусурмана» указывает на опасение, что западные идеи разрушают ту стабильность и моральный порядок, которые существовали в русском обществе.
Таким образом, эта фраза не только демонстрирует отношение графини к Чацкому, но и раскрывает более широкую картину культурных и религиозных конфликтов того времени, подчеркивая роль имагологии в формировании общественного мнения о «другом».
А. С. Грибоедов изображает два противоположных мира, символизирующих конфликт между старым и новым порядком. В центре пьесы стоит фигура Чацкого, представителя нового поколения, который критикует устаревшие моральные и социальные ценности, выражаемые в поведении героев, таких как Фамусов. Этот конфликт между идеалом, который представляет Чацкий, и реальностью, которую олицетворяет Фамусов, является основой для разоблачения ограниченности старого мира.
Чацкий, будучи человеком просвещенным, воспитанным на западных философских идеях (Вольтер, Руссо), не находит общего языка с окружающими его персонажами, московским обществом. Он становится своеобразным чужаком в своей родной культуре, и его идеи о разумном прогрессе, свободе и человеческих правах воспринимаются как бунтарские. Потому в пьесе Чацкого называют (наравне с «вольтерьянцем») то «карбонарием», то «якобинцем». Первое – член тайного революционного общества в Италии, расширительно – бунтовщик, вольнодумец; второе – член Якобинского клуба, наиболее радикальной политической организации во время французской революции 1789 года, также вольнодумец, смутьян. Для высшего общества России начала XIX века, ориентированного на старые порядки и уклад, Чацкий был неудобной личностью. Это не просто социальная инаковость, но и культурная, духовная. Он стал воплощением того, что не вписывается в привычный порядок. По мнению С. Д. Артамонова, конфликт между Чацким и миром Фамусова «состоит вовсе не в споре ума и глупости» (несмотря на название комедии, и антагонисты главного героя – далеко не глупцы), а в «коренном различии их политических, социальных и нравственных позиций» [1, c. 229].
Особенность восприятия Чацкого обществом состоит в том, что для его окружения («фамусовского общества») его «иностранность» становится чуть ли не доказательством его моральной и духовной испорченности. Взгляды Чацкого не просто странны – они опасны, потому что угрожают существующему порядку вещей. Для персонажей пьесы западное влияние равно моральному разложению, а любой, кто принял идеи «вольтерьянства» или «просвещенческого» мировоззрения, автоматически становится подозрительным и чуждым.
Несмотря на свою инаковость, Чацкий может быть рассмотрен как персонаж с перспективами: он представляет собой образ прогресса, и хотя его идеи не находят отклика в этом обществе, в будущем они, возможно, станут основой для перемен.
Одинок ли Чацкий в своих убеждениях? В доме Фамусова, по-видимому, да: здесь он не принят никем. Но в рамках пьесы, замечает М. В. Нечкина, нет. Отмечая, что пафос героя в том, что он борется один против многих, она настаивает, что все же следует говорить не о герое-одиночке, а о двух «лагерях русской общественной жизни». В «лагере» Чацкого исследовательница выявляет несколько внесюжетных персонажей, которые своими поступками обнаруживают сходство с мировоззрением главного героя [7, c. 190–191]. К ним относятся двоюродный брат Скалозуба, который оставил вдруг службу, хотя ему следовал чин, «крепко набрался каких-то новых правил» и «в деревне книги стал читать», а также князь Федор, племянник княгини Тугоуховской, который обучался в вольнодумном Петербургском педагогическом институте и в силу этого «чинов не хочет знать», профессора и студенты Педагогического института, упражняющиеся в «расколах и безверьи» (упоминание этого образовательного учреждения не случайно: в 1821 году был возбужден процесс против четырех профессоров института, обвиненных в вольномыслии). Чацкий, таким образом, перестает быть героем-одиночкой, а проблематика пьесы расширяется от межличностного конфликта до конфликта между двумя «лагерями русской общественной жизни», исторически верно понятого и изображенного Грибоедовым. Причем этот конфликт развился до быта, до повседневности: Чацкий приезжает к любимой девушке, а не на встречу декабристов, но и в рядовом дворянском доме в ходе бытового общения становится очевидным распад общества на два противоборствующие лагеря.
В биографии Грибоедова можно найти параллели с образом Чацкого. Будучи воспитанным в духе западных идей, Грибоедов сам испытал противоречия культурных переходных процессов. Он был человеком, который много путешествовал, хотя преимущественно на Восток, учился в Московском университете, где слушал лекции немецких профессоров Буле и Шлецера [10, c. 12–14], был приобщен к западному образованию. В письме неизвестному от ноября 1820 года поэт писал: «Знания, которыми я обладаю, сводятся к владению языками: славянским и русским, латинским, французским, английским, немецким. В бытность мою в Персии изучал я персидский и арабский» [4, c. 482]. Грибоедов прекрасно играл на фортепиано, о чем сохранилось немало свидетельств современников [6, c. 243; 8, с. 249, 251], и сам сочинял музыку. Грибоедов не только знал западную литературу, философию и культуру, но и сам активно участвовал в интеллектуальной жизни того времени. Его опыт жизни и работы в Персии, а также его дипломатическая карьера позволяли ему находиться в культурной среде, далекой от традиционного российского общества, что подтверждает, насколько актуальными для него были вопросы взаимодействия различных культур.
Параллели с образом Чацкого можно увидеть и при сравнении сущности конфликта литературного героя и переживаний самого Грибоедова. В своей мини-статье, озаглавленной «Характер моего дяди», он описал нрав дяди как «смесь пороков и любезности; извне рыцарство в нравах, а в сердцах отсутствие всякого чувства», страсть обманывать женщин в любви, мужчин – в карты, угодничество по службе. Эти характеристики автор присваивает широкому кругу современников, к которому принадлежал его родственник: «У всякого была в душе бесчестность и лживость на языке. <…> Он как лев дрался с турками при Суворове, потом пресмыкался в передних всех случайных людей в Петербурге, в отставке жил сплетнями» [5, c. 372]. В образе дяди можно угадать высмеянные автором негативные черты множества героев комедии – Фамусова, Скалозуба, Молчалина, Репетилова. Не исключено, что дядя поэта был прототипом пороков фамусовского круга, а в комедии выразилось разочарование автора в современном ему обществе.
Грибоедов жил в эпоху, когда Россия находилась на пороге великих перемен, и идеи просвещенческого века постепенно проникали в общество. События, такие как Французская революция, наполеоновские войны и реформы Александра I, создавали благоприятную почву для новых идей. Однако в российской аристократии сохранялись сильные традиции и жесткие социальные устои, что приводило к конфликту между прогрессивными и консервативными силами. Грибоедов, как человек, который видел эти противоречия, стал выразителем идеи о том, что общество, отказывающееся от прогресса, не сможет избежать кризиса.
Неудивительно, что комедия ходила в списках, не печаталась целиком и долгое время не одобрялась цензурой. Она была поставлена на сцене только после смерти автора, в 1831 году, и даже попытка учащихся театрального училища поставить ее на студенческой сцене при жизни автора была пресечена перед самой премьерой [6, c. 242].
Западная Европа, и в частности Франция, играют важную роль в формировании образа «другого» в пьесе. В свете конфликта «двух миров» западный мир воспринимается как более просвещенный, более развитый и цивилизованный по сравнению с российским. Однако восприятие западного мира в пьесе не является однозначно положительным. Присутствие европейского влияния в русской общественной жизни несет в себе и скрытые угрозы. Один из каналов такого воздействия – приезжие гувернеры. Сам же Фамусов говорит о них: «Берем же побродяг , и в дом, и по билетам» (действие 1, явление 4). В комментариях С. А. Фомичев поясняет: «побродяги» – приходящие эмигранты-гувернеры, с кем было принято рассчитываться билетами (квитанциями), предъявляемыми в контору барина для выплаты денег [9, c. 152]. Само слово «побродяга» указывает на некомпетентность таких учителей, на восприятие их самими русскими дворянами как лжепедагогов. Стереотип учителя-«побродяги» имел реальные предпосылки: это был широко распространенный тип в российском обществе.
В этом мнение Фамусова совпадает даже со мнением Чацкого, который язвительно спрашивает:
“Что нынче, так же, как издревле,
Хлопочут набирать учителей полки,
Числом поболее, ценою подешевле? – И сам же отвечает:
Не то, чтобы в науке далеки;
В России, под великим штрафом,
Нам каждого признать велят
Историком и географом!
Наш ментор, помните колпак его, халат,
Перст указательный, все признаки ученья
Как наши робкие тревожили умы,
Как с ранних пор привыкли верить мы,
Что нам без немцев нет спасенья!” (действие 1, явление 7).
Мода, которую зло высмеивает Грибоедов,- благоговение перед всем чужеземным, характеризующее многих русских. Слова Фамусова о «побродягах», которые приезжают в Россию в поисках работы и получают оплату «по билетам», подчеркивают реальность того времени, когда Россия активно заимствовала иностранные практики, включая образование и воспитание. Эмигранты, ставшие гувернерами, символизировали этот процесс заимствования западной культуры, но также и зависимость от «чужих», что создавало эффект культурной асимметрии. Чацким упомянут миф о чужеземном спасении – идея, что только иностранцы способны обучить и просветить. Это благоговение перед западным знанием и «образованностью» отражает наивность и культурное рабство российской аристократии, которая стремилась подражать Западу. Чацкий, язвительно упоминающий о «наборе учителей», критикует не только саму практику заимствования иностранного образования, но и раболепное отношение к чуждой культуре. Его сарказм в вопросах о «науке» и «штрафах» показывает не только его недовольство, но и осознание того, как глубоко укоренилось мнение о необходимости иностранного влияния. Чацкий высмеивает идею, что иностранцы могут быть лучшими учителями, чем русские, и это подтверждается его сарказмом. Он также подчеркивает, как российское общество приучено к «поклонению» немцам (в том числе – немцам как символу просвещенности), что служит примером отчужденности и слабости культурной идентичности.
Помимо немца-ментора, в пьесе выведено два гувернера-француза. Нанятая Фамусовым для Софьи мадам Розье, с его слов, «старушка-золото»: «умна была, нрав тихий, редких правил». Положительная характеристика мадам контрастирует с ее поступком: она «за лишних в год пятьсот рублей сманить себя другими допустила» (действие 1, явление 4). То, что француженку сманили работать за бόльшие деньги, говорит о ней как о человеке, руководствующемся денежной выгодой, а не педагогическими принципами или любовью к воспитаннице. Другой гувернер – мосье Гильоме, бывший танцмейстер Софьи, от которого Чацкий ожидает, что он мог бы жениться на «какой-нибудь княгине», ведь он «кавалер», и от него не потребуют того, чего требуют от «своих» (русских) мужчин – «с именьем быть и в чине» (действие 1, явление 7). Ирония Чацкого обнажает почитание русскими иностранцев и готовность слепо подражать им. Эта мысль перекликается со словами Фамусова об открытости иностранному влиянию:
“Кто хочет к нам пожаловать, - изволь,
Дверь отперта для званых и незваных,
Особенно из иностранных” (действие 2, явление 5).
Таким образом, через своих героев Грибоедов демонстрирует критику русской аристократии, которая потеряла способность ориентироваться в собственных ценностях и полагается на чужеземные образцы.
Чрезмерное увлечение иностранными учителями и науками, которое обсуждается в пьесе, имеет свои корни в эпохе Екатерины II, когда Россия активно заимствовала европейские идеалы Просвещения, в том числе образовательные системы (например, ланкастерскую систему). Это увлечение было связано с попыткой модернизировать Россию и стать «европейской» державой, но оно также отражало культурную неуверенность. России требовалось западное одобрение, чтобы утвердиться как часть европейской цивилизации, что и стало одним из парадоксов XVIII–XIX веков.
Проникновение европейской культуры в повседневную жизнь русских чувствуется во множестве мелких деталей пьесы. Например, в том, что язык, которым говорит московское общество, Чацкий называет «смешеньем языков: французского с нижегородским» (действие 1, явление 7). За этим фразеологизмом закрепилось значение такого смешения, в котором иностранные слова переплелись с русскими просторечиями, сочетая несовместимое и зачастую противоположное, рождающее комический эффект. Фамусов жалуется, что Софье «сна нет от французских книг» (действие 1, явление 2), а русские барышни поют «французские романсы» (действие 2, явление 5).
Франция в пьесе – законодатель мод, и это ее влияние на русскую жизнь досадно Фамусову, который с разочарованием констатирует:
“А все Кузнецкий мост, и вечные французы,
Откуда моды к нам, и авторы, и музы:
Губители карманов и сердец!” (действие 1, явление 4).
Упоминание Кузнецкого моста неслучайно: на этой улице Москвы было сосредоточено множество иностранных лавок, преимущественно французских, торговавших модным товаром. Увлечение французской модой очевидно и из перечисления нарядов княжон, явившихся на бал: эшарп
(шарф, от фр. echarpe ), тюрлюрлю (род накидки), барежевый (из прозрачной материи, одноименной ткани) – все эти слова имеют французское происхождение. Даже русские имена княжон Зинаида, Мария и Екатерина произносятся героями на французский манер: Зизи, Мими, Катишь.
Грибоедов высмеивает слепое подражание французской моде, пустоту, которая кроется за стремлением украсить себя нарядами или искаженным на французский манер именем.
Развитие этой темы достигает апогея в монологе Чацкого, в котором он говорит о «французике из Бордо», который, собираясь в Россию:
“Собрал вокруг себя род веча
И сказывал, как снаряжался в путь
В Россию, к варварам, со страхом и слезами;
Приехал – и нашел, что ласкам нет конца;
Ни звука русского, ни русского лица
Не встретил: будто бы в отечестве, с друзьями;
Своя провинция” (действие 3, явление 22).
Эти слова Чацкого ярко иллюстрируют тему культурной подражательности и искажения национальной идентичности, которая является одной из ключевых в «Горе от ума». Через ироничное изображение иностранного воспитателя и обстановки, в которой не осталось ни языка, ни облика, свойственных русской традиции, Грибоедов обнажает опасность чрезмерного преклонения перед Западом. Отсутствие «русского лица» и «русского звука» символизирует не просто влияние, а полное вытеснение национального начала, что вызывает у Чацкого (и через него у автора) тревогу за будущее России. Подобное влияние оказывается фактором, угрожающим целостности «своего», русской культуры.
Таким образом, конфликт «своего» и «чужого» здесь приобретает конкретную форму – борьбу за сохранение культурной аутентичности. Имагологи-ческий анализ помогает глубже осознать, что речь идет не о поверхностном модном увлечении иностранным, а о глубинном кризисе самоидентификации, вызванном некритическим заимствованием чужих образов, идеалов и привычек, что угрожает духовной целостности нации.
Тот же монолог содержит и другую важную сентенцию Чацкого:
“Ах! если рождены мы всё перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнанья иноземцев,
Воскреснем ли когда от чужевластья мод?
Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев” (действие 3, явление 22).
Эти слова Чацкого служат ярким примером размышлений героя о границах культурного заимствования и о способности нации к сохранению собственной идентичности. Здесь противопоставление «своего» и «чужого» выходит за рамки исключительно российско-иностранного контекста. Через упоминание Китая, как символа иной цивилизации, дистанцированной от влияния Запада, Грибоедов вводит в текст пьесы более широкий има-гологический пласт, позволяющий осмыслить отношения не только России и Западной Европы, но и России и Востока.
Таким образом, речь идёт о многоуровневом восприятии «чужого»: западное как привлекательное, но опасное в плане культурной ассимиляции, и восточное как противоположность Западу, символ культурной замкнутости и сохранения традиций. Это двойное сопоставление позволяет рассматривать пьесу как размышление о выборе пути: либо слепое подражание Западу, либо поиск модели устойчивого развития в духе Востока, либо же, и это ключевое, выработка собственной, подлинно национальной идентичности, основанной на критическом осмыслении как западных, так и восточных образцов. Имагология в данном случае становится инструментом не только художественного анализа, но и философской рефлексии над судьбой России в ее культурном самоопределении.
Можно констатировать, что в пьесе Грибоедова заложено несколько слоев стереотипов, включая тот, что «немцы» и «французы» (иностранцы) – это представители более прогрессивных, разумных и утонченных наций, в то время как русские ассоциируются с отсталостью и примитивизмом. Однако Грибоедов демонстрирует абсурдность такого подхода, потому что в реальности иностранцы (на примере гувернеров) в российском обществе того времени были часто не более чем просто символами прогресса, а не носителями истинного знания.
Это отношение к чужому как к «более высокому» также связано с проблемой культурной идентичности России. Взгляд Грибоедова на эти вопросы напрямую связан с его личным опытом. Он сам был дипломатом, много путешествовал, и его взгляд на культуру был значительно шире, чем у тех, кто ограничивался только российским контекстом. «Горе от ума» в определенном смысле является реакцией на это фальшивое «поклонничество» перед чужеземным и обличением того, как общество закрывает глаза на свои внутренние проблемы, пытаясь слепо следовать западным образцам.
Пьеса «Горе от ума» является одной из ключевых в русской литературе, и ее можно рассматривать не только как комедию, но и как произведение, в котором выявляются важнейшие имагологические проблемы, связанные с восприятием идентичности, чуждости и культурных стереотипов в русском обществе конца XVIII – начала XIX века. Эти проблемы рассматриваются через столкновение разных культур, социальных слоев и мировоззрений, что делает произведение особенно актуальным в контексте имагологии – науки, изучающей восприятие чужих культур.
«Горе от ума» представляет собой произведение о поиске идентичности в условиях социальной и культурной трансформации. Это выражается в столкновении старого и нового, в борьбе за сохранение культурной самобытности в условиях давления извне. Вопрос выживания культурной идентичности в условиях западного влияния и модернизации – это центральная проблема пьесы, которая остается актуальной и для сегодняшнего дня.
Одним из ключевых аспектов пьесы является использование стереотипов, связанных с иностранными и чуждыми влияниями. Например, образ гувернера-побродяги – это яркий пример того, как на чуждые элементы (в данном случае – западных учителей) накладываются негативные стереотипы. В пьесе происходит осмеяние этой «моды» на иностранцев и их влияние на российское общество, что ставит под вопрос не только их роль, но и необходимость приспособления к чужой культуре.
Другой пример – восприятие немцев и французов как символа образованности и прогресса в России – также являет собой стереотипное отношение к чуждому. Несмотря на иронию Чацкого, этот стереотип присутствует в обществе и часто приводит к культурному отчуждению, что усугубляет кризис российской идентичности.
Наконец, восприятие французов как изысканной и утонченной нации, преклонение перед модными новшествами, приходящими из Франции и воспринимаемыми как излишние, несущественные, также высмеивается автором.
Изучение пьесы Грибоедова в имагологическом ключе даёт возможность понять, как восприятие чуждого влияния формировало культурные стереотипы и как эти стереотипы влияли на восприятие своей собственной культуры. Имагологический подход позволяет глубже раскрыть природу конфликта, лежащего в основе комедии, трактуя его как столкновение различных культурных идентичностей. «Горе от ума» становится отражением сложного процесса самоопределения России в условиях нарастающего западного влияния, что обостряет вопрос национальной самобытности и духовной автономии. Образ Чацкого как носителя прогрессивных, просветительских идей олицетворяет противостояние новаторского сознания с консервативным, патриархальным обществом, стремящимся сохранить устоявшийся уклад. Восприятие «чужого» – прежде всего Западной Европы – представлено в пьесе в амбивалентном ключе: с одной стороны, оно вызывает интерес и стремление к обновлению, с другой – настороженность и стремление к охране традиционного миропорядка. Анализ культурных стереотипов, воплощенных в характерах и речах персонажей, способствует более глубокому пониманию механизмов формирования общественного мнения и коллективного самосознания, что делает пьесу важным источником для исследования процессов культурной идентификации России на рубеже эпох.
«Горе от ума» остается актуальным не только как историческое произведение, но и как произведение, которое позволяет нам анализировать проблемы культурной идентичности и межкультурного взаимодействия в более широком контексте. Вопросы об отношении к чуждому, страх перед инаковостью, поиски «своего» в мире культурных трансформаций остаются живыми и сегодня, особенно в условиях глобализации и культурного обмена.
Изучение пьесы через призму имагологии помогает нам лучше понять, как восприятие чуждого влияет на формирование культурных и социальных стереотипов, а также – какие перспективы открываются в отношениях культур, когда они сталкиваются. В эпоху стремительных изменений и перемещений культурных границ произведение Грибоедова вновь становится актуальным, открывая новые горизонты для осмысления идентичности и чуждости в контексте исторического и современного развития.