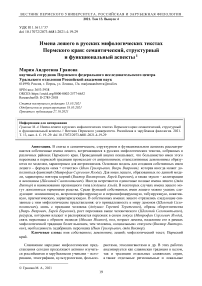Имена лешего в русских мифологических текстах Пермского края: семантический, структурный и функциональный аспекты
Автор: Гранова Мария Андреевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 4 т.13, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье в семантическом, структурном и функциональном аспектах рассматриваются собственные имена лешего, встречающиеся в русских мифологических текстах, собранных в различных районах Пермского края. Проведенный анализ показывает, что большинство имен этого персонажа в пермской традиции происходят от антропонимов; отапеллятивные демононимы образуются по моделям, характерным для антропонимов. Основная модель для создания собственных имен лешего - формула имя + отчество (Иван Григорьевич, Вихрь Вихрович), которая иногда может дополняться фамилией (Митрофан Сергеевич Ягода). Для имен лешего, образованных по данной модели, характерны повторы корней (Виктор Викторович, Еврей Евреевич), а также звуков - аллитерации и ассонансы (Шалопай Салопонтьевич). Иногда встречаются одиночные полные имена лешего (дядя Виктор) и наименования прозвищного типа (дедушка Алый). В некоторых случаях имена лешего могут дополняться терминами родства. Среди функций собственных имен лешего можно указать следующие: номинативную, антропоморфизирующую и персонифицирующую, табуирующую, вокативную, прагматическую, характеризующую. В собственных именах лешего отразились следующие связанные с ним мифологические представления: его принадлежность к миру демонов (Шалопай Салопонтьевич), связь с предками человека (дедушко Теретей Теретеевич), образы оборотничества (Вихрь Вихрович, Еврей Евреевич), рост персонажа выше человеческого (Шалопай Салопонтьевич), ресурсы, которыми владеет и распоряжается персонаж в своем локусе (Митрофан Сергеевич Ягода), связь персонажа с образом медведя (Михаил Иваныч), пол, возраст демона, наделение его в рамках мифологической традиции более высоким, чем человека, социальным статусом (Виктор Викторович), необходимость задабривать персонажа (Иван Григорьевич, дядя Виктор).
Имя собственное, демононим, леший, мифологический текст, пермский край
Короткий адрес: https://sciup.org/147236774
IDR: 147236774 | УДК: 811.161.1’37 | DOI: 10.17072/2073-6681-2021-4-19-29
Текст научной статьи Имена лешего в русских мифологических текстах Пермского края: семантический, структурный и функциональный аспекты
традиции. Не остаются без внимания и верования русских жителей Пермского края. Они исследуются посредством анализа предметного (см., например: [Подюков 2019б; Подюков 2020]) и обрядового кодов традиционной культуры (см., например: [Королёва 2014; Четина, Королёва 2016]), а также мифологических текстов (см., например: [Русинова 2020; Русинова, Шкураток 2018; Черных, Русинова, Шкураток 2016; Королёва, Беломестнова 2018]) и лексики русских говоров региона (см., например: [Русинова, Шку-раток 2017; Русинова, Гранова 2014]).
При этом в качестве источника сведений о мифологических представлениях жителей края рассматриваются не только нарицательные лексические единицы, но и собственные наименования демонологических персонажей. Так, М. В. Бобровой и И. И. Русиновой на пермском материале проведено исследование собственных имен бесов – духов болезни, вселяемых колдуном в тело жертвы и вызывающих у нее приступы болезни икоты (см. [Боброва, Русинова 2020]), а работа И. А. Подюкова [Подюков 2019а] посвящена рассмотрению русских мифологических представлений, связанных с темой смерти, нашедших отражение в собственных наименованиях смерти, а также в названиях кладбищ и топографических «объектов» того света.
Нами обнаружен также ряд ономастических работ, выполненных на материале других традиций и посвященных собственным именам мифологических персонажей. Среди них укажем статью А. Б. Мороза, в которой в этимологическом аспекте анализируется наименование домового и лешего Кутафий / Кутафья (см. [Мороз 2015]), а также статью Л. Н. Виноградовой [Виноградова 2019], где рассматриваются личные имена чёрта в украинской мифологической традиции. В общерусском масштабе собственные имена духов-«хозяев» проанализированы в диссертации О. А. Черепановой [Черепанова 1983], а в общеславянском – в статье Л. Раденковича [Раденко-вич 2013].
Как видно из приведенного обзора, в настоящее время полностью отсутствуют работы, посвященные специальному изучению собственных наименований духов-«хозяев» локусов, присутствующих в мифологической традиции русских Пермского края. Представляемое исследование призвано восполнить данную лакуну и посвящено рассмотрению собственных имен одного персонажа – лешего. Мы ставим задачу комплексного анализа названных демононимов с точки зрения способов их образования, их структуры, функций, а также мифологических представлений, которые находят в них отражение. Материалом для нашего анализа послужили ми- фологические тексты о лешем, собранные в различных районах края, извлеченные нами из диалектологического архива лаборатории лексикологии и лексикографии (рук. И. И. Русинова) и фольклорного архива лаборатории теоретической и прикладной фольклористики (рук. С. Ю. Королёва) филологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (Материалы), из фольклорноэтнографических сборников, посвященных различным локальным традициям региона, и из словарных статей диалектных словарей Пермского края (см. список источников настоящей работы).
Так, в проанализированных мифологических текстах мы обнаружили 13 демононимов, называющих духа-«хозяина» леса. Среди них имеются одиночный антропоним в полной форме (( дядя) Виктор ), множество имен, образованных по формуле «имя + отчество» ( Виктор Викторович, Вихрь Вихрович, (дедушко) Теретей Теретеевич, Еврей Евреевич, Иван Васильевич, Иван Григорьевич, Леонтий Леонтьевич, Михаил Иванович, Шалопай Салапонтьевич ), одна единица, включающая личное имя, отчество и фамилию ( Митрофан Сергеевич Ягода ), и одно прозвище (( дедушка) Алый ). Приведем контексты: Лесной есть, слыхали, его зовут дядя Виктор (Сергеева Юрл.) (Русские: 223); Виктор Викторович , говорят, леший-то, его просят, если корова поте-рятся (У.-Зула Юрл.) (СРГКПО: 64); В бумажках писали: « Вихрь Вихрович , отдай телёнка живого или мёртвого, а то я на тебя подам в суд». И эти бумажки вот свертывали и бросали по росстаням (У.-Зула Юрл.) (Русские: 228); Писали письмо: « Дедушко Теретей Теретеевич , отдай мне-ка корову» (Елога Юрл.) (СРГКПО: 237); Случай был. Я пашу, а леший по полю идёт. У него пинжак, пуговки. Я не забоялся, по бороздке иду: «Куда ты, Еврей Евреевич ?». Он говорит: «Вот, мужика ищу». Сам одет – пин-жак, пуговки зеют, огнём горят (Таволжанка Юрл.) (Русские: 223); Блазнит в лесах-то, блаз-нит. Это дедушко блазнит. <…> Один мужик шёл выпившим . <…> Видит, на мостках седенький старик сидит. Идёт и говорит ему: «Здорово, Иван Васильевич !» (Тетерино Сол.) (Материалы); А тут парень оказался под ёлкой. Маленький. Ему тоже показался Иван Григорьевич . Он его тут-то и поставил, под ёлку-то. Мать кричит ему: «Ванька, Ванька!» А он-то и не шелохнется, стоит как втимился (Тетерино Сол.) (там же); Табачку возьмите, папиросок, сходите в лес, пенёк найдёте, ложите на пенёк и там скажете: « Леонтий Леонтьевич , угостись вот табачком, приведи нам такого-то» (Насадка Кунг.) (СРГЮП 2: 18); У меня руки болели, экзема была. Я всё её просила вылечить.
<…> Вот взялась как-то, давай в трубу кричать: «Помоги бабе-то, помоги». Она всё его Михаил Иванычем звала, помоги, мол, Михаил Иванович (Монино Усол.) (УД: 210); Там бабка живёт – сказывала. Говорит, я коз пасла . <…> Я, говорит, гляжу к лесу-то – а там человек идёт, чуть не с лесом наравне . <…> Он подходит ко мне. Говорит: «Ну ак чё ты тут делаешь? – Козей пасу. – А кто ты такая?» Она говорит: «Раба Божья. А кто ты? – Я Шалопай Салапонтьевич ». И тут сразу ветер поднялся, и он опять ушёл в лес (Соковниха Киш.) (СРГЮП 3: 379-380); У нас был один [пастух]. <…> Он всё говорит: «У меня Митрофан Сергеевич Ягода завсегда пасёт коров (Губдор Краснов.) (Материалы); Грамотки пишут: « Дедушка Алый , верни корову такой-то масти» (Мухо-морка Юрл.) (СРГКПО: 85).
Все обнаруженные единицы можно разделить на две большие группы. К первой из них отнесем имена лешего, образованные от антропонимов: Иван Васильевич, Иван Григорьевич, Митрофан Сергеевич (Ягода), Леонтий Леонтьевич, (дедушко) Теретей Теретеевич, Михаил Иванович, Виктор Викторович, дядя Виктор. Все перечисленные имена появились на базе распространенных календарных антропонимов, что согласуется с общерусской традицией. Так, О. А. Черепанова указывает, что в роли имен мифологических персонажей обычно используются «календарные личные имена бытового характера. Перечень их разнообразен, но ограничен и социально мотивирован. Чаще встречаются имена широкого хождения» [Черепанова 1983: 178]. При этом антропонимы, переходя в разряд демононимов, иногда претерпевают фонетические изменения диалектного характера (например, Теретей Теретеевич ← Терентий Терентьевич ).
Что касается имени Михаил Иванович, то, помимо простой распространенности этого имени в крестьянской среде, можно предложить и другую мотивировку его использования для обозначения лешего. Дело в том, что названные имя и отчество в русской фольклорной традиции часто используются по отношению к медведю: «С приходом христианства медведь в русском фольклоре получил христианские имена, как бы вводящие его в семейную структуру патриархальной семьи русской сказки: Потапыч, Михайло Иваныч [выделено нами. – М. Г.], Михаил Потапыч, Топтыгин» [Сиссе 2020: 165]. Образ медведя же в традиции связывается с образом лешего. Так, леший является хозяином медведя, перегоняет стада лесных животных, в том числе и стада медведей, с места на место или из одного леса в другой [Легенды… 1989: 185-186]; с другой стороны, медведь в русских сказках тоже предстает как хозяин леса и всех его обитателей [Кошкаро-ва 2009: 101]; леший может принимать облик медведя [Левкиевская 2004: 105]; и леший, и медведь могут сожительствовать с девушкой или женщиной, которая заблудилась в лесу либо специально была похищена персонажем [Кошкарова 2009: 101]; оба персонажа зимой уходят под землю, в хтонический мир, залегают в спячку [там же: 102]; оба обитают в лесу. Поэтому имя медведя Михаил Иванович в пермской мифологической традиции стало обозначать лешего как смежного, связанного с этим животным демонического персонажа.
Другая большая группа наименований духа леса включает имена, образованные от апелляти-вов. К этой группе отнесем единицы Вихрь Вих-рович, Еврей Евреевич, Шалопай Салапонтьевич. Как указывает О. А. Черепанова, имена данного типа возможно разделить на такие, где апелляти-вы использованы в качестве собственных имен без каких-либо изменений их структуры ( баба Середа, бес Колдун), и такие, которые представляют собой отапеллятивные образования, построенные по моделям «обычных» антропонимов ( Ворон Воронович, Вихорь Иванович, змея Рига-туха ) [Черепанова 1983: 179]. Наши единицы, таким образом, отнесем ко второй группе.
Рассмотрим теперь представления жителей Пермского края о лешем, которые нашли отражение в отапеллятивных наименованиях. Так, имя Вихрь Вихрович отражает верование о том, что появление духа леса «обычно связано с различными погодными явлениями, особенно с бурей, вихрем или резким ветром» [Левкиевская 2004: 105]. Кроме того, в пермской традиции леший сам часто принимает облик вихря. Ср.: Вот когда ветер сильный, может унести. Сильный ветер-то, буря-то живёт – это леший, вихрь называют (Таволжанка Юрл.) (Русские: 222); Что за лешак, мы его не видим. Что погода вот бывает: взззь, так, как крылом метёт с дороги, – это вихор , его внуки. Как-то шла из больницы, не надо дорогу пересекать ему, видно пересекла. Дак гальками в шары – тики-тики-тики! Господи! Чур наш аминь! Чур наш аминь! Тебе дорога, мене другая! Да меня чисто всю исшшелкал гальками-то вихор (Караг.) (КС: 90). Таким образом, в анализируемой единице получил отражение один из образов оборотничества персонажа.
Кроме того, по нашему мнению, с влиянием этого демононима связано функционирование в пермской традиции имен лешего Виктор Викторович и дядя Виктор. Формально они образованы от антропонимов, однако нельзя не отметить фонетической близости демононимов Вихрь Вих-рович и Виктор Викторович, т. е. отапеллятив-ный оним заменяется на более привычный для людей антропоним, поскольку, как представляется, собственно антропоним в большей степени способствует антропоморфизации и персонификации демонологического персонажа, чем отапел-лятивный, так как первый напрямую связан с обозначением человека, а второй – только косвенно, по форме, за счет суффикса (-ович).
Интересен демононим Еврей Евреевич, оба компонента которого образованы от этнонима еврей. Для нашего анализа важно, что данный этноним обозначает представителя этноса, отличного от русского, поэтому использование указанного этнонима в качестве имени демона следует связать с универсальной для народной культуры оппозицией «свой» – «чужой»: «Бинарное противопоставление “свой – чужой” является одной из базовых семантических оппозиций в народной культуре <…> Оппозиция “свой – чужой” в приложении к социуму осмысляется через разноуровневые связи человека: кровнородственные и семейные (свой/чужой род, семья), этнические (свой/чужой народ, нация), языковые (родной/чужой язык, диалект), конфессиональные (своя/чужая вера), социальные (свое/чужое сообщество, сословие) <…>. Признаки “чужести” могли приобретать и члены “своего” коллектива (семьи, общины)» [Белова 2006: 28–29]. Таким образом, в народной традиции любой иноэтничный представитель, оказавшийся в сообществе русских, воспринимается последними как «чужой», поскольку его поведение и образ жизни отличаются от принятых в данном сообществе и являются для русского языкового коллектива определенной территории малоизвестными и малопонятными. Поэтому «иностранец» воспринимается русскими как потенциально опасный, такой, который может причинить вред. Следующим шагом является приписывание этнически чужим сверхъестественных способностей и демонических характеристик, поскольку любой демонологический персонаж также воспринимается людьми как представитель чужого, «нечеловеческого», демонического мира: оппозиция «свой» – «чужой» «соотносится с такими оппозициями, как хороший – плохой, праведный греховный, чистый – нечистый, живой – мертвый, человеческий – нечеловеческий (звериный, демонический) [выделено нами. – М.Г.], внутренний – внешний» [Белова 2009: 581]. Так, например, представители нерусского этноса часто считаются в деревенском социуме колдунами: «Приписывание вредоносных магических способностей живущим рядом представителям иного этноса – чрезвычайно популярная модель описания социального пространства. В случае практически моноэтничного и моно-конфессионального населения подобные подо- зрения обычно падают на жителей соседнего района, села или куста деревень» [Христофорова 2010: 91]. Поэтому «в русской народной картине мира почти всякий чужой воспринимается как потенциальный колдун» [там же]. Кроме того, по народным представлениям, демоны могут принимать облик этнически чужих: например, облик инородца «(немца, француза, литовца, еврея, арапа) принимают черт, водяной леший [выделено нами. – М. Г.]» [Белова 1999: 416]. Все сказанное выше, по нашему мнению, служит причиной превращения рассматриваемого этнонима в собственное имя духа леса.
Имя лешего Шалопай Салопонтьевич образовано от апеллятива шалопай . В литературном языке последний имеет значение ‘бездельник, повеса’ [МАС: эл. ресурс]. Однако для нашего анализа более интересны замечания В. В. Виноградова. Ученый указывает, что шалопай находится в этимологическом родстве со словами шалопут и шалопан и, со ссылкой на В. И. Даля и И. А. Бодуэна де Куртенэ, в качестве одного из их диалектных значений указывает ‘рослый’, ‘долговязый’. В. В. Виноградов также отмечает, что «установилась традиция сближать шалопай с франц. chénapan (‘негодяй’). Это сопоставление сделано М. Михельсоном, который в параллель к «шалопай» приводил и нем. Schnapphahn (‘хапун’, ‘мошенник’) и франц. Chénapan [Виноградов 1999: 740-741]. Кроме того, ученый указывает, что существует и народная этимология, в соответствии с которой слово шалопай сближается с шалить , шалун [там же: 741].
Представляется, что любая из описанных сем могла служить причиной превращения рассматриваемого апеллятива в демононим. Так, слово шалопай в русском языке имеет отрицательные коннотации (‘негодяй’, ‘мошенник’, т. е. тот, кто опасен, может причинить вред), и, соответственно, лицо, обозначаемое этим словом, получает отрицательную оценку, что отсылает к вредоносной для человека демонической природе персонажа. Кроме того, Шалопай может рассматриваться как «хулительное» имя демона. Другой мотивировкой появления этого демононима может быть связь с глаголом шалить. Отметим, что диалектная единица шалить в отношении к мифологической лексике обозначает вредоносные действия мифологического персонажа по отношению к человеку. (ср. данные Этнодиалектного словаря мифологических рассказов Пермского края об этом глаголе, характеризующем действия колдуна: шалить – ‘зло шутить, издеваться над кем-либо, вызывать болезни, применяя магические знания и умения’ [ЭСМРПК: 736]). В подобном значении глагол шалить может использоваться и по отношению к другим мифологическим персонажам, в том числе духам локусов. Таким образом, если принять эту мотивировку, то демононим указывает на вредоносность лешего для человека. Наконец, происхождение анализируемого демононима может быть обусловлено семой ‘долговязый, высокий’, которая имеется у слова шалопай в диалектном языке. В этом случае демононим мотивирован народными представлениями о росте духа леса: леший «имеет вид <…> человека огромного роста, одетого в белое» [Левкиевская 2004: 105]. В этом случае высокий рост отличает персонажа от людей, т. е. маркирует его принадлежность к миру демонов.
К отапеллятивным образованиям необходимо отнести и единственную встретившуюся в пермских материалах фамилию лешего – Ягода . Эта фамилия указывает на связь персонажа с его природным локусом, поскольку леший является покровителем леса и всего, что в нем есть – как животных, так и растений (деревьев, грибов, ягод и т. д.) [там же: 106]. При этом, если человек ведет себя в лесу правильно, уважительно общается с хозяином леса, персонаж делится с человеком «дарами леса» (леший «помогает тем, кто его уважает и обращается к нему за помощью: женщине, которая не могла найти ягод, показывает ягодное место» [там же: 107]).
Наконец, отапеллятивную природу имеет прозвище лешего дедушка Алый , где собственно демононим образован от прилагательного алый . Мотивировку этого демононима следует связывать с существующей в народной культуре колористической символикой, которая «основывается на цветовой триаде белый – черный – красный » [Тараканова 2012: 15]. «Белый и черный цвета находятся на полярных точках цветового спектра, а их названия и символика антонимичны. В символической сфере корреляция ‘белый’ – ‘черный’ (‘светлый’ – ‘темный’) может входить в эквивалентный ряд с парами ‘хороший’ – ‘плохой’, ‘мужской’ – ‘женский’, ‘живой’ – ‘мертвый’, отчасти ‘молодой’ –‘немолодой'» [там же], «свой – чужой, грешный – праведный <…>, а также с категориями добро и зло <...>; при этом символика каждого цвета неоднозначна» [Белова 2012: 474].
Необходимо, вслед за О. А. Черепановой, сказать, что «символика красного цвета в народной мифологии различна, но глубинная семантика красного – это связь с огнем, и с огнем как небесным, так и огнем подземного царства. Отсюда своеобразная энантиосемия красного цвета в мифологической символике: это цвет жизни, солнца, но это и цвет потустороннего мира, демонических сил. Именно поэтому красный цвет часто присутствует в описаниях мифологических персонажей» [Мифологические рассказы… 1996].
Отметим, что в пермской традиции красный часто присутствует в одежде лешего ( Нарядная такая, в красной юбке , в красной кофте лешачиха-то ходит (Б. Долды Черд.) (ББ: 64–65); У дороги стоит старик, ругается. Мама спрашивает: «Что случилось?» Старик отвечает: «Сметали мы копны. Идёт нам навстречу мужик в красных сапогах . Говорит: “Дай прикурить”». Мужик был некурящий, прикурить не дал, кричит: «Лешак вас носит, ходите, просите покурить». Мужик в красных сапогах плюнул и дальше пошёл. Только отошёл подальше – как туча идёт, ветер поднялся. Буря началась, все копны по ветру разметала. Вот старик и говорит: «Не простой мужик прошёл, а лешак. Не дал я ему прикурить, вот он всё и разметал » (Сол.) (Материалы)) либо характеризует его облик в целом ([Леший?] Чёрт – леший, может, есть. Говорят, какой-то он красный (Писаное Краснов.) (там же)). Заметим, что в нашем случае цвет не просто красный, а алый , т. е. очень насыщенный красный, цвет крови, что еще больше выделяет персонажа, ярче маркирует его демоническую природу.
Рассмотрев народные представления, лежащие в основе собственных имен лешего, обратимся к анализу структуры демононимов. Так, говоря о наименованиях лешего по имени-отчеству, нельзя не обратить внимание на повтор корней компонентов таких наименований: Виктор Викторович, Вихрь Вихрович, (дедушко) Те-ретей Теретеевич, Еврей Евреевич, Леонтий Леонтьевич; в рамках единицы Шалопай Сала-понтьевич наблюдаем аллитерацию и ассонанс (корни имени и отчества уподобляются друг другу за счет присутствия в них согласных звуков ш – с, л, п и гласных звуков а, о). Вслед за А. Ф. Журавлевым, нужно отметить, что повторы «характеризуют не только фонетику бесовских текстов, но пронизывает всю их ткань, вплоть до синтаксиса», это «принципиальная особенность бесовской речи» [Журавлев 2013: 362]. Таким образом, с одной стороны, повторы в именах маркируют речь персонажа, когда он представляется человеку сам (например, фраза-представление в одном из приведенных выше отрывков: Я Шалопай Салапонтьевич). С другой стороны, как видим из приведенных примеров, подобные имена часто используются в грамотах лешему (В бумажках писали: «Вихрь Вихрович, отдай телёнка живого или мёртвого, а то я на тебя подам в суд») либо при личном столкновении человека с демоном (Я пашу, а леший по полю идёт. У него пинжак, пуговки. Я не забоялся, по бороздке иду: «Куда ты, Еврей Ев-реевич?»), т. е. анализируемые единицы становятся принадлежностью ритуальной речи, кото- рая должна уподобиться речи представителей потустороннего мира, с которыми человек хочет установить контакт, чтобы выгодным для себя образом воздействовать на персонажа [Толстая 2009: 431].
Такое употребление наилучшим образом иллюстрирует одну из важных функций демонони-мов – функцию табуирования прямого имени персонажа, которая связана с существующим в славянской традиции запретом называть демона прямым именем, чтобы не навлечь на себя его возможное вредоносное воздействие [Левкиев-ская 1999б: 244], поэтому вместо прямого названия используются заместительные имена. Имя собственное, даваемое духу локуса носителями данной мифологической традиции, может превратиться в такое заместительное имя: «Некоторые мифологические существа в фольклоре славянских народов, кроме названий, могут иметь и личное имя. Это указывает на то, <…> что их личное имя является табуистической или эвфемистической заменой настоящего названия» [Раден-кович 2013: 59] (ср. также замечание М. В. Бобровой и И. И. Русиновой о собственных именах бесов – духов болезни: «Помимо прочего, собственные имена духов болезни выступают в дейктической функции, замещая собой истинное имя демона» [Боброва, Русинова 2020: 95]).
Представляется, что именно стремлением задобрить демона и вести с ним конструктивный диалог продиктовано использование наименований лешего по имени-отчеству, что является в русском языке уважительной формой обращения. Используя такие демононимы, человек показывает свое почтительное отношение к духу леса как к старшему по положению и возрасту. Именно поэтому модель «имя + отчество» встречается при номинации лешего чаще других.
Кроме того, задобрить лешего призваны помочь и термины родства, используемые вместе с именем собственным (дедушко Теретей Терете-евич, дедушка Алый, дядя Виктор). Их употребление при собственных наименованиях, как представляется, может быть обусловлено несколькими причинами. Во-первых, по народным представлениям, леший может принимать облик любого человека, в том числе и любого члена семьи [Левкиевская 2004: 105]. Во-вторых, духи-«хозяева», в том числе леший, часто воспринимаются в народной культуре как души умерших предков рода или умерших старших родственников [Левкиевская 1999а: 156]. В-третьих, «можно увидеть некий параллелизм в отношениях человека и подвластных ему домашних животных и мифологических хозяев <…> и людей. В отношении к домашним животным хозяйка берет на себя функции матери-кормилицы, в отношении к мифологическим хозяевам дома, двора, бани, леса и т.д. все домочадцы считают себя <…> [их] подчиненными, признают [их] главенство <…> как “отца”» [Качинская 2015: 17]. Таким образом, используя вместе с собственным именем лешего термин родства, человек превращает его в «родственника», делает «чужого», каким является демон для людей, «своим», что позволяет говорящему защититься от возможного вредоносного воздействия персонажа.
Итак, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
-
1. Большинство имен лешего в пермской традиции происходят от антропонимов. Отапелля-тивные демононимы составляют лишь около трети всех зафиксированных в проанализированных текстах имен, причем их структура повторяет модели, типичные для антропонимов. Так, основная модель для создания собственных имен лешего – формула «имя + отчество» ( Иван Григорьевич, Иван Васильевич, Вихрь Вихрович ), которая иногда может дополняться фамилией ( Митрофан Сергеевич Ягода ). При этом для имен лешего, образованных по данной модели, характерны повторы корней ( Виктор Викторович, Леонтий Леонтьевич, Теретей Теретеевич, Еврей Евреевич ), а также звуков – аллитерации и ассонансы ( Шалопай Салопонтьевич ). Иногда встречаются также одиночные полные имена лешего ( дядя Виктор ) и наименования прозвищного типа ( дедушка Алый ). Кроме того, в некоторых случаях имена лешего могут дополняться терминами родства ( дедушко Теретей Теретеевич ).
-
2. Собственные имена, используемые носителями традиции по отношению к духу-«хозяину» леса, выполняют следующие основные функции: номинативную (называют демона), антропомор-физирующую и персонифицирующую («одушевляют» мифологического персонажа, уподобляют его человеку), табуирующую (заменяют прямое имя персонажа с целью защиты от его возможного вредоносного воздействия), вокативную (привлекают внимание персонажа при обращении к нему и помогают устанавливать контакт между человеком и демоном при их непосредственной встрече, а также в грамотах с просьбой вернуть пропавшего в лесу человека или скотину), прагматическую (показывают отношение говорящего к персонажу, чаще всего уважительное ( Иван Григорьевич, Михаил Иваныч, Вихрь Вихрович )), характеризующую (указывают на ключевые для традиционной культуры особенности персонажа).
-
3. В собственных именах лешего отразились следующие связанные с ним в пермской мифологической традиции представления: принадлежность к миру демонов ( Шалопай Салопонтьевич, дедушка Алый ), связь с предками человека ( де-
- душко Теретей Теретеевич), образы оборотниче-ства (дедушка Алый, Вихрь Вихрович, Еврей Ев-реевич), рост персонажа выше человеческого (Шалопай Салопонтьевич), ресурсы, которыми владеет и распоряжается персонаж в своем локусе (Митрофан Сергеевич Ягода), связь персонажа с образом медведя (Михаил Иваныч), пол, возраст демона, наделение его в рамках мифологической традиции более высоким, чем человека, «социальным» статусом (Виктор Викторович, дедушко Теретей Теретеевич), необходимость задабривать персонажа (Иван Григорьевич, Еве-рей Евреевич, дядя Виктор, дедушка Алый).
Список литературы Имена лешего в русских мифологических текстах Пермского края: семантический, структурный и функциональный аспекты
- Белова О. В. Инородец // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под. общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 2. Д (Давать) -К (Крошки). М.: Междунар. отношения, 1999. С.414-418.
- Белова О. В. Свой - чужой // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под. общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 4. П (Переправа через воду) - С (Сито). М.: Междунар. отношения, 2009. С.581-582.
- Белова О. В. Цвет // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. М.: Междунар. отношения, 2012. Т. 5. С (Сказка) - Я (Ящерица). С. 474-476.
- Белова О. В. Этнические стереотипы по данным языка и народной культуры славян (этнолингвистическое исследование): дис. ... д-ра филол. наук. М., 2006. 264 с.
- Боброва М. В., Русинова И. И. Демононимы в русских мифологических текстах Пермского края // Вопросы ономастики. 2020. Т. 17, № 3. С. 83-103.
- Виноградов В. В. История слов. М., 1999. 1138 с.
- Виноградова Л. Н. Антропонимический код в украинской демонимии // Вопросы ономастики. 2019. Т. 16. № 2. С. 69-84.
- Журавлев А. Ф. Фонетика бесовской речи (на восточнославянском материале) // ЕШпоП^Ш8-tica Slavica. К 90-летию академика Никиты Ильича Толстого / отв. ред. С. М. Толстая. М.: Ин-дрик, 2013. С.344-362.
- Качинская И. Б. Термины родства в мифологическом пространстве (по материалам архангельских говоров) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2015. Вып. 2(30). С. 16-26.
- Королёва С. Ю. Обряд «проводов души» с ритуальным заместителем умершего (материалы русско-коми-пермяцкого пограничья) // Антропологический форум. 2014. № 23. С. 52-76.
- Королёва С. Ю., Беломестнова А. С. Образ петуха в рассказах о кладах (на материале несказочной прозы русского и финно-пермских народов) // Традиционная культура. 2018. Т. 19. № 5. С.192-205.
- Кошкарова Ю. А. К вопросу о взаимосвязи образов медведя и лешего в русской народной традиции // Научные ведомости БелГУ. История.
- Политология. Экономика. Информатика. 2009. № 9(64). С. 97-102.
- Левкиевская Е. Е. Духи локусов // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под. общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 2. Д (Давать) -К (Крошки). М.: Междунар. отношения, 1999а. С.155-157.
- Левкиевская Е. Е. Задабривать // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под. общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 2. Д (Давать) -К (Крошки). М.: Междунар. отношения, 19996. С. 244-246.
- Левкиевская Е. Е. Леший // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 3. К (Круг) -П (Перепелка). М.: Междунар. отношения, 2004. С.104-108.
- Легенды, предания, бывальщины / сост., под-гот. текстов и вступ. ст. Н. А. Криничной. М.: Современник, 1989. С. 185-186.
- МАС - Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1999. Т. 1-4. URL: http://feb-web.ru/feb/mas/MAS-abc/default.asp (дата обращения: 09.08.2021).
- Мифологические рассказы и легенды Русского Севера / сост. и авт. ком. О. А. Черепанова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1996. URL: https://www.booksite.ru/fulltext/mip/hol/ogi/che/sky e/index.htm (дата обращения: 05.08.2021).
- Мороз А. Б. Как зовут домового? К этимологии одного демононима // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология: материалы III Междунар. науч. конф. /отв. ред. Е. Л. Березович. Екатеринбург, 2015. С.186-189.
- Подюков И. А. Ономастическое оформление картины потустороннего мира в народной культурно-языковой традиции // Вопросы ономастики. 2019а. Т. 16. № 3. С. 125-139.
- Подюков И. А. Символика орудий крестьянского труда в народной культуре Пермского края // Труды Камской археолого-этнографической экспедиции. 2019б. № 15. С. 129-135.
- Подюков И. А. Символизм бытовых вещей в традиционной русской культуре Прикамья // Современное изобразительное искусство, архитектура и дизайн: грани и границы: материалы Все-рос. науч.-практ. конф. / под ред. А. П. Кро-халевой. Пермь, 2020. С. 73-82.
- Раденкович Л. Личные имена мифологических существ // Ethnolinguistica Slavica. К 90-летию академика Никиты Ильича Толстого / отв. ред. С. М. Толстая. М.: Индрик, 2013. С.59-72.
- Русинова И. И. Способы облегчения смерти колдуна (на материале русских мифологических рассказов Пермского края) // Традиционная культура. 2020. Т. 21. Вып. 1. С. 136-148.
- Русинова И. И., ГрановаМ. А. Восприятие «профессионала» как колдуна, знахаря (по данным пермских говоров) // Региональное речевое пространство в синхронии и диахронии: материалы Всерос. науч. конф. / ред. Н. В. Логунова, Л. Л. Мазитова. Соликамск, 2014. С. 31-36.
- Русинова И. И., Шкураток Ю. А. Мифологические значения слов икота, икотка (по данным говоров Юрлинского района Пермского края) // Филология в XXI веке: методы, проблемы, идеи: материалы V Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. / отв. ред. И. И. Русинова. Пермь, 2017. С. 270-275.
- Русинова И. И., Шкураток Ю. А. Мотивы передачи / получения вербальной магии и их отражение в лексических единицах (на материале мифологических рассказов Пермского края) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10. Вып. 4. С.59-69.
- Сиссе К. Тотемный символ, персонаж русских сказок - медведь // Неофилология. 2020. Т. 6. № 21. С. 164-169.
- Тараканова Д. А. «Символическое» в семантике цветообозначений в народной культуре (лингвокультурологический аспект) // Вестник Томского университета. 2012. № 360. С. 15-17.
- Толстая С. М. Речь ритуальная // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под. общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 4. П (Переправа через воду) - С (Сито). М.: Междунар. отношения, 2009. С. 427-432.
- Христофорова О. Б. Колдуны и жертвы: антропология колдовства в современной России. М.: ОГИ, РГГУ, 2010. 432 с.
- Черепанова О. А. Мифологическая лексика русского языка: дис. ... д-ра филол. наук. Л., 1983. 435 с.
- Черных А. В., Русинова И. И., Шкураток Ю. А. «Вещица» в мифологических рассказах русских Среднего Прикамья // Традиционная культура. 2016. № 2. С. 62-79.
- Четина Е. М., Королёва С. Ю. Традиционная обрядность и «ритуальные специалисты» в современном селе // Социо- и психолингвистические исследования. 2016. № 4. С. 137-144.
- ЭСМРПК - Этнодиалектный словарь мифологических рассказов Пермского края / И. И. Ру-синова, А. В. Черных, К. Э. Шумов, С. Ю. Королёва. Ч. 1: Люди со сверхъестественными свойствами. СПб.: Маматов, 2019. 832 с.