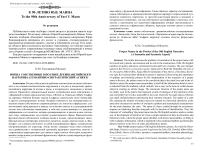Имена собственные в поэтике древнеанглийского нарратива (семантико-синтаксический аспект)
Автор: Гвоздецкая Наталья Юрьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: К 90-летию Ю.В. Манна
Статья в выпуске: 3 (50), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждается проблема соотнесенности имени собственного с его лексико-синтаксическим окружением и его роль в построении древне-английского нарратива (в поэзии и прозе, в исторических сочинениях и житиях святых). Проводится сравнительный анализ употребления имен собственных в «Церковной истории народа англов» Беды, «Житии св. Освальда» аббата Эльфрика, переводе «Метров Боэция» короля Альфреда, героическом эпосе «Беовульф» и других аллитерационных поэмах. Выявляя значимость для интерпретации семантики имени собственного сопровождающих его эпитетов и формульных словосочетаний, автор приходит к выводу, что в житиях святых и в аллитерационной поэзии имя собственное накапливает в себе всю унаследованную из традиции информацию о его носителе, которая «разворачивается» в рассказ в виде глагольных клауз, направленных на создание художественного образа. Мнемоническая функция имени собственного особенно видна в поэмах, представляющих своеобразный каталог репертуара эпического сказителя, однако заметна также в «Беовульфе», где сложное имя влечет за собой клишированные фразы, семантически воспроизводящие его структуру. Автор жития, сокращая число имен собственных (сравнительно с исторической хроникой), расширяет оценочные эпитеты и стереотипные характеристики для главного героя, святого. Имя героя, возвеличиваемого посредством устойчивой фразеологии, обретает идеализирующую функцию наряду с функцией идентификации. Таким образом, характер «встраивания» имени собственного в древнеанглийский нарратив маркирует определенный путь развития словесного творчества: от простой констатации фактов в хрониках и исторических сочинениях, где имя собственное идентифицирует известных личностей, к наполнению его оценочной информацией, которая запечатлевается в сложных эпитетах и формульных оборотах, присущих житиям святых и аллитерационной поэзии.
Имена собственные, поэзия, житие св. освальда, фразеология, "беовульф", беда достопочтенный, "церковная история народа англов", древнеанглийская аллитерационная, аббат эльфрик, нарратив, сложные эпитеты, формульная
Короткий адрес: https://sciup.org/149127178
IDR: 149127178 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00056
Текст научной статьи Имена собственные в поэтике древнеанглийского нарратива (семантико-синтаксический аспект)
** The work was done with the support of the Russian Foundation for Basic Research, project 17-04-00-444.
Имена собственные занимают важное место в поэтике разных литературных жанров, нередко играя смыслообразующую роль в художественном произведении: достаточно вспомнить имена таких гоголевских персонажей, как Хлестаков, Плюшкин, Манилов, которые приобрели нарицательное значение. В литературе нового времени автор осознанно выбирает имена для своих героев: подобные «говорящие имена» намекают на социально-психологические или символические черты персонажей, передают авторское к ним отношение, создают атмосферу рассказа. В средневековой литературе, ориентированной на следование образцу и канону, имена персонажей (как правило, принадлежащих известному аудитории сюжету) задаются традицией. На этом «традиционалистском» этапе развития литературы, как и на предшествующем ему этапе «архаическом» [Аверинцев и др. 1994, 3-38], имя служит идентификации конкретного лица и выступает, прежде всего, знаком правдивости рассказа, который выполняет, наряду с эстетической функцией, функцию познавательную. Тем не менее, и на этой стадии становления литературного сознания имена собственные несут художественную нагрузку, которая может проявляться в композиции и семантико-синтаксических связях слов в нарративе. В данном исследовании предпринята попытка обосновать роль антропонимов в построении древнеанглийского нарратива и, в том числе, показать их семантико-синтаксические функции в поэтическом тексте.
Древнеанглийская литература начала складываться вместе с появлением древнеанглийской письменности в процессе христианизации страны (VII-VIII вв.) и достигла своего расцвета в эпоху объединения Англии в борьбе против скандинавских завоевателей (X-XI вв.). Поэзия опережала прозу: поэтические школы Кэдмона и Кюневульфа, легендарных родоначальников древнеанглийской поэзии, по-видимому уже сложились, когда появилась Англосаксонская хроника, а король Альфред и его ученые сподвижники положили начало прозаическим переводам с латыни (конец IX вв.). На рубеже X-XI вв. оба жанра идут рука об руку, так что проза аббата Эльфрика (библейские переводы, жизнеописания святых) создается параллельно со стихотворными библейскими парафразами и поэтическими житиями, выходившими из-под пера безымянных учеников Кэдмона и Кюневульфа. Причем проза и поэзия вступают в тесное взаимодействие: прозаические места в выполненном Альфредом переводе «Утешения философией» Боэция чередуются с аллитерационными стихами, в Англосаксонской хронике прозаический рассказ перемежается иногда поэтическими вставками, агиографическая проза Эльфрика насыщена аллитерацией. Начало же этому положил Беда Достопочтенный, который не только включил в свою «Церковную историю народа англов» латинские гимны, в том числе переложение Гимна Кэдмона, но и выразил сожаление, что его перевод не может передать всей красоты древнеанглийского оригинала (IV, 24). (Латинский текст Беды цит. по [Colgrave, Mynors 1969], русский перевод цит. по [Беда 2001], с указанием номера книги и главы).
Ранние образцы древнеанглийской прозы (VII-IX в.) не носят еще художественного характера, будучи ограничены записями законов, королевскими грамотами, завещаниями и хрониками, а богословские и церковные тексты создаются исключительно на латыни. Ситуация меняется в конце IX в. благодаря просветительской деятельности короля Альфреда, который инициировал как переводы с латыни, так и организацию школ, где обучали грамоте на родном языке. Создатели этих переводов, хотя и преследовали, в первую очередь, познавательные цели, адаптировали повествование к англосаксонской аудитории, нередко значительно сокращая, а иногда расширяя оригинал в стремлении придать ему занимательность. Летописцы, в свою очередь, вставляли в погодные перечни событий развернутые рассказы, способные подействовать на воображение читателя. В полной мере художественный характер древнеанглийская проза приобретает в древнеанглийских житиях аббата Эльфрика, чье воздействие на читателя определяется не только назидательными целями, но и живостью рассказа.
В ранней прозе имя собственное выполняет, прежде всего, идентифицирующую функцию, указывая на реальное лицо, а расширяющие его глагольные клаузы обозначают частные действия этого лица, определяемые конкретной ситуацией. Так, в 831 г. некая Эалхбург обещала ежегодно поставлять со своей земли в Кенте провизию монахам церкви Христа в Кентербери и наложила соответствующие обязательства на своего наследника Эадвеалда. В тексте завещания ее намерения отображаются перформативной формулой ic Ealhburg bebiade Eadwealde minem mege, «я, Эалхбург, приказываю Эадвеалду моему родичу» [Смирницкий 2008, 21].
Столь же частными являются глагольные расширения имени собственного в Англосаксонской хронике, несмотря на их стереотипный характер. Хроника, по самому своему заданию, упоминает происшествия, связанные исключительно с лицами высокого звания, чьи предикаты чаще всего укладываются в известные схемы («стал королем», «правил», «сразился», «убил», «захватил», «принял крещение», «умер») и служат идентификации событий, а не созданию образа. Лаконичный язык хроники не допускает иных именных расширений антропонима, кроме прозвищ и обозначений социального или родственного статуса: элдормен Этельвульф; король Этельред и его брат Эльфред; Эльфред, сын Этельвульфа; Сидрок Старый; епископ Хеахмунд, и др. [Метлицкая 2010, 68-69]. Даже богатый деталями эпизод кровавой распри между королем Кюневульфом и его врагом Кюнехеардом, братом изгнанного королем Сигеберта, выдержан здесь в фактографичном летописном стиле: созвучные двучленные имена соперников не увязываются в аллитерационную коллокацию, их семантика (нечто вроде «родовитый волк» и «родовитый смельчак») никак не обыгрывается, хотя древнеанглийская литература знает случай осознанного обыгрывания подобного имени, когда архиепископ Вульфстан, бичуя соотечественников в проповеди, дал ей название Sermo Lupi ad Anglos, «Послание Волка к Англам». Рассказ о Кюневульфе и Кюнехеарде показывает, насколько значимость имени в нарративе хроники определяется социальной значимостью персонажа: по имени назван убитый Сигебертом элдормен, но не пастух, убивший Сигеберта в отместку за своего господина.
Впрочем, латинский текст Беды, касающийся пастуха Кэдмона (IV, 24), являет собой интересный пример «сокрытия» имени героя, в котором слышится отголосок мифоэпической ментальности. Начиная рассказ о монастыре, где окончил свои дни этот первый христианский поэт англосаксов, Беда называет его «некий брат» и не вводит его имени собственного до тех пор, пока это имя не произносит явившийся Кэдмону во сне посланник Божий: «Кэдмон, спой мне что-нибудь». И пастух, прежде не способный к словотворчеству на светских пирушках, вместе с именем обретает дар песнопения. После этого в коротком диалоге с ангелом имя Кэдмона трижды появляется в сопровождении таких предикатов, как «ответил», «спросил», «начал петь хвалу Господу Создателю».
Эпизод с Кэдмоном напоминает эпизод из эддической «Песни о Хельги сыне Хьёрварда», где заглавный герой вместе с именем получает от валькирии Свавы отменный меч в знак его будущих героических деяний -и наряду с этим, по-видимому саму способность к подвигам [Песнь о Хельги 1975, 255]. Акт называния (призвания) ангелом Кэдмона возможно трактовать как акт имянаречения, предопределяющий дальнейшие чудесные перемены в его судьбе: латинское выражение appellans nomine, «назвав / позвав по имени», в древнеанглийском переводе заменяется на фразу be noman nemnde, букв, «именем поименовал». Как и в эддической песни, имя собственное в рассказе Беды выступает символом полученного героем дара и его будущей славы: имени собственного заслуживает лишь тот, о ком есть, что рассказать. Вспомним, что для автора древнеанглийской поэтической парафразы библейской Книги Исхода трагедия египтян, преследовавших израильтян при переходе через Красное море, заключалась не столько в самой их гибели, сколько в том, что некому было рассказать об их участи [Гвоздецкая 2010, 360]. Однако едва ли стоит заходить слишком далеко в подобной интерпретации рассказа о Кэдмоне - ведь в иных местах Беда, как прилежный хронист, спешит назвать имена всех упоминаемых им лиц и особенно тех, кого представляет как свидетелей повествуемого - вероятно, чтобы подтвердить его достоверность.
В переводной прозе, как и следует ожидать, появление имени собственного в тексте обычно обусловлено латинским оригиналом. Замене, как правило, подлежит не имя собственное, а сопровождающие его определения: так, Альфред при переводе Боэция заменяет названия должностей римского государственного аппарата словами родного языка, имеющими близкие значения, например, вождь (dux) превращается в короля (cyning) [Ненарокова 2002, 81]. Имена античных героев, неизвестные англосаксонской аудитории, нередко опускаются, но иногда замещаются: так, имя римского политика Фабриция было заменено на имя германского легендарного кузнеца Веланда, поскольку первое производно от лат. faber «кузнец» [Матюшина 2006, 38-39].
Интересно проследить изменение роли и места в рассказе имени собственного при смене жанрового регистра, о чем свидетельствует процесс трансформации исторического сочинения в агиографическое, а также прозы - в поэзию. Обратимся к тому, как преобразует аббат Эльфрик исторический рассказ Беды о нортумбрийском короле Освальде в житие святого.
В «Церковной истории народа англов» рассказ об Освальде (IV, 1-13) содержит множество антропонимов и топонимов, призванных подтвердить достоверность описываемого, но не всегда имеющих прямое отношение к Освальду. Беда излагает историю крещения англосаксонских королевств в хронологической последовательности и в контексте крещения всей Англии, отчего сюжет об Освальде пронизан событиями за пределами Нортумбрии и увязан с политикой правителей. Эльфрик в своем жизнеописании святого убирает параллельные линии рассказа, в том числе политическую подоплеку событий, вместе с чем исчезает ряд антропонимов и топонимов, которые мешали бы читателю сосредоточиться на личности короля. Так, из перечня политических соперников Освальда исключены его сородичи, зато более ярким становится описание его противостояния иноземному противнику Кэдвалле. По имени назван брат и преемник Освальда, король Освий, который после гибели Освальда в бою забрал с поля битвы его останки, но не дочь брата, которая поместила их для почитания в монастырь. Опущены имена некоторых свидетелей посмертных чудес Освальда, которые в эпоху Эльфрика уже не требовались в качестве доказательств их реальности. Убирая ряд топонимов, Эльфрик оставляет, однако, наименование места битвы, на котором Освальд одержал победу над врагом, поскольку имя Хевенфельд (Небесное Поле) Беда считает символическим предзнаменованием восстановления христианства в Нортумбрии (III, 2).
Глагольные предикаты, сопровождающие имя Освальда в житии Эльфрика, как и у Беды, подчиняются определенной схеме, отражающей последовательность конкретных событий: «жил да был» (w$s, 1) - «воздвиг Крест» (araerde ane rode, 12) - «вступили в сражение» (eodon to [эат gefeohte, 17-18) - «одержали победу» (gewunnon [эжг sige, 18) - «пожелал обратить свой народ в веру» (wolde gebigan his leoda to geleofan, 34) -«стал восприемником в крещении» [короля Кинегильса] (hine to fulluhte nam, 95) - «был убит» (ofslagen weard, 105), и т.п. (Древнеанглийский оригинал жития цит. в переводе автора статьи по: [Fowler 1978, 45-48] с указанием номеров строк, принятым в этом издании). Однако Эльфрик чаще, чем Беда, снабжает эти предикаты оценочными определениями и пояснениями, которые заменяют характерные для Беды реалистические детали рассказа. Так, картина воздвижения Креста перед битвой представлена у Беды такими деталями, как «в спешке сколотили Крест и вырыли для него яму, король сам в благочестивом рвении водрузил его и держал обеими руками, пока воины засыпали яму» (III, 2). У Эльфрика вместо этого находим краткую фразу, отмечающую лишь благочестивые намерения короля: «Прежде чем вступить в бой, Освальд воздвиг Крест во славу
Божию» (12-13). Фраза эта повторяется с небольшими вариациями: «С тех пор стоял там тот самый Крест, который воздвиг Освальд во славу Божию» (22). Далее, у Беды Освальд, «едва взойдя на трон, позаботился о том, чтобы весь управляемый им народ сподобился благодати христианской веры» (III, 3). У Эльфрика, «как только Освальд пришел к власти, задумал он по воле Божией склонить свой народ к вере в Бога Живаго» (34-35).
Упоминание воли (или славы) Божией - характерный житийный топос, которым неоднократно пользуется Эльфрик. Не забывает он напомнить читателю и о том, что все чудеса совершались по вере (или заступничеству) Освальда. У Беды в соответствующих местах рассказа подобные выражения отсутствуют, хотя он и упоминает «искренность веры» короля (III, 2). Нарратив Беды нацелен на передачу конкретных фактов, ср. описание исцеления мхом с воздвигнутого Освальдом Креста монаха Ботельма, который «спрятал дар [мох] за пазуху, забыл его вытащить и оставил там. Среди ночи он проснулся от прикосновения чего-то холодного и, ощупав себя поврежденной рукой, обнаружил, что она вылечилась, словно никогда не болела» (III, 2). У Эльфрика это описание сведено к одной фразе: «Больной тотчас заснул и в ту же ночь исцелился по заступничеству Освальда» (27-28). Нарратив Эльфрика направлен на создание образа святого.
Таким образом, имя собственное в прозе Эльфрика словно окутывается некоей аурой, которая сообщает ему аксиологический смысл. Большую роль играют в этом оценочные эпитеты, сопровождающие или замещающие имя Освальда, число которых у Эльфрика превышает таковое у Беды. Дело, все же, не столько в их количестве или качестве (в целом они соответствуют латинскому оригиналу), сколько в распределении их в тексте. И у Беды, и у Эльфрика имя Освальда при первом появлении сопровождается стереотипной оценочной характеристикой, ср. Osualdi, uiri Deo dilecti (III, 1) «боголюбивому Освальду», букв. «Освальду, мужу, угодному Богу» и sum жбе1е cyning Oswald gehaten... gelyfed swyde on God (1-3) «некий благородный король по имени Освальд... весьма возлюбленный в Боге» -эпитет Освальда варьирует здесь эпитет короля Эдвина, крестителя Нортумбрии, on Crist gelyfed (6) «возлюбленный во Христе». Однако далее Беда не дает Освальду оценочных эпитетов вплоть до эпизода, в котором раскрывается милосердие короля (pauperibus et peregrinis semper humilis, benignus et largus fuit, III, 6 «он всегда оставался добрым, милостивым и щедрым к бедным и путешествующим»), Эльфрик же не только предваряет эпизод схожей характеристикой (Da weard se cyning Oswold swide aelmesgeorn and eadmod on ])eawum ond eallum ])ingum cystig, 60-61; «стал король Освальд щедр на милостыню, и кроток нравом, и во всем добродетелен»), но и ранее вставляет оценочные эпитеты всякий раз, когда речь идет о благочестивых поступках короля. Причем один из эпитетов, se geleaffulla «исполненный веры», носит описательный характер, как и geleafod on God «боголюбивый», а другие два - Oswald se eadiga «преподобный Освальд» и ])жт gesaeligan cyninge «блаженному королю» - приближаются к титулам святого (ср. лат. beatus как наименование первого этапа канонизации на
Западе). Неудивительно поэтому, что далее в рассказе Эльфрика о гибели Освальда тот прямо именуется святым - haedenan genealaehton to |эат halgan Oswolde (112), «язычники приблизились к святому Освальду».
Беда, повествуя о жизни Освальда, не дает ему таких титулов. Два исключения, на первый взгляд, составляют фразы «Освальд, святейший и победоноснейший король нортумбрийцев» (sanctissimum ас uictoriosis-simum regem Nordanhymbrorum, III, 7) и «Освальд, христианнейший король Нортумбрии» (christianissimus rex Nordanhymbrorum, III, 9). Однако формы суперлатива представляют здесь скорее трафаретные выражения, лишенные канонического церковного смысла (в письмах они сведены до вежливых обращений). Прилагательное sanctus нередко сочетается у Беды с наименованиями священных предметов, а применительно к людям может трактоваться просто как знак благочестия, о чем свидетельствует его появление в форме компаратива (sanctior uir, III, 10 «более святой муж», то есть выделяющийся благочестием). И если Беда все же именует Освальда «святым мужем» (uiri sancti, III, 11), то и неких клириков он в том же эпизоде уважительно представляет как «святых мужей» (uirorum sanctorum, Ш, 11), не давая свидетельств их святости. Характерно, что к Освальду указанные суперлативы также прилагаются в эпизодах, не связанных с посмертными чудесами.
В собственно каноническом смысле Беда применяет слово sanctus к Освальду лишь дважды (оба раза не в атрибутивном употреблении): в эпизоде с мальчиком, получившим исцеление «у гробницы святого» (ad tum-bam sancti, III, 12), где Освальд поименован как король, «соцарствующий с Господом» (cum Domino regnantis, III, 12), и в эпизоде, где обитатели монастыря Бардни отказались принять останки короля, хотя «знали, что он был святым» (sanctum eum nouerant, III, 11). У Эльфрика подобный титул при упоминании чудес появляется чаще. В эпизоде с грешником, исцеленным реликвиями Освальда (III, 13), Беда говорит лишь о «заслуживающей удивления святости» короля (mirandae sanctitatis), проявлявшейся в «его замечательной вере и добродетели» (excellentia fidei et uirtutis), а Эльфрик в том же эпизоде трижды называет его святым (halig). Также в концовке жития, в посмертной похвале Освальду (138-149) тот трижды назван святым, причем его имя стоит в окружении имен трех других подвижников веры, чья святость не вызывала сомнений в эпоху составления жития (se haiga Beda, se haiga Cudberht, Aidanes... {эжз halgan bisceopes). Поскольку древнеангл. halig имело широкий спектр значений (святой, священный, праведный, благочестивый), Эльфрик, говоря о перенесении мощей в монастырь Бардни, трижды уточняет церковный статус Освальда, вводя латинское заимствование sanct: монахи, по человеческому заблуждению, не пожелали «принять святого» фопе sanct underfon, 129), но Бог просветил их, «что он, праведник, был свят» фж! he halig sanct waes, 131), так что им все же пришлось «принять святого» фопе sanct underfon, 135), коего они прежде отвергли.
Беда-историк, хотя и не сомневается в святости Освальда, ведет по- вествование в терминах причинно-следственных связей, соотнося чудеса с характером и духовным устроением своего героя и предваряя их описание такой преамбулой: «Его великая вера в Бога и духовное рвение выразились после его смерти во многих чудесах» (III, 9). Эльфрик-агиограф не нуждается в подобных объяснениях, поскольку представляет святость короля как данность, а чудеса - совершающимися по благодати Божией. Поэтому у Эльфрика титулы Освальда, свидетельствующие о его святости, часто предваряют описываемые события, а не следуют за ними. Имя святого и его титулы как бы заранее содержат всю информацию, которая разворачивается в виде рассказа. Имя в житии, уснащенное эпитетами, возвеличивает его носителя, в чем заметны элементы эпизации истории, которая начинает служить недосягаемым образцом для аудитории.
Нечто похожее можно наблюдать в древнеанглийской аллитерационной поэзии, где имя, в том числе имя собственное, сопровождаемое и варьируемое разными эпитетами, доминирует в звуковой и ритмико-синтаксической организации рассказа над глаголом. Превращение исторического повествования в житие можно сравнить с трансформацией прозы в поэзию, недаром отдельные места в житиях содержат так много аллитераций и ритмико-синтаксических формул, что первые издатели печатали их стихами (ср. образец зачина жития св. Освальда в публикации В. Скита [Fowler 1978, 44]). Главенство имени собственного с его эпитетами заметно уже в первых трех строках указанного текста:
/ГIter dan бе Augustinus to Engla lande becom, Was sum cedele cyning, Oswald gehaten, On Nordhymbra lande, gelyfed swy[>e on God.
Интересно, что аллитерированное переложение метров Боэция из «Утешения философией» близко не к латинским стихам, а к их более раннему древнеанглийскому прозаическому переложению, весьма отличающемуся от оригинала [Матюшина 2006, 33, 46]. Следовательно, поводом для поэтического переложения послужило не стремление к передаче содержания, а нечто иное. Стихи в оригинале Боэция «благодаря более широкому взгляду на предмет наделяются большей значимостью, чем соседствующие с ними прозаические части» [Матюшина 2006, 12]. Вероятно, чем-то подобным мог руководствоваться и англосаксонский автор. Сравним введение речи Мудрости (Wisdom), чье имя заменяет иноземное имя Philosophia, в прозе и поэзии. (Текст древнеанглийского Боэция цит. по [Fowler 1978, 122-123], русский перевод автора статьи). В прозе: Da ongan se Wisdom singan ond giddode ]dus, «Тут начала Мудрость петь и возгласила так». В поэзии: Da se Wisdom eft / wordhord onleac, // sang sodcwidas, / and ])us selfa cw$d, «Тут Мудрость вновь / раскрыла словосокровищни-цу, // запела правдивые песни / и так сама сказала». Обращает на себя внимание не только технический прием стихотворного сочинения - воспроизведение устойчивой аллитерационной коллокации, ср. зачин поэмы
«Морестранник»: M$g ic be me sylfum / sodgied wrecan, «Могу я о себе / правдивую песнь сложить» (Цит. по: [Fowler 1978, 108]). Более значим тот факт, что семантический потенциал имени собственного раскрывается в сопровождающих его именах нарицательных, которые задают оценку содержания прямой речи: сказанное правдиво, драгоценно и принадлежит самой Мудрости.
Еще более интересный пример находим в развернутой поэтической интерпретации переводческой деятельности Альфреда, о которой в прозаическом прологе к переводу Боэция сказано кратко: «... когда он [Альфред] изучил эту книгу и перевел ее с латыни на английскую прозу, он переложил ее еще раз в стихи» (цит. по: [Матюшина 2006, 28]). Первые пять строк поэтического пролога строятся на аллитерационных коллокациях, начинающихся с имени собственного: /Elfred - ealdspell «Альфред -древний сказ», cyning - craeft «король - искусство», leodwyrhta list - lust «мастерство слагателя песен - желание», leodum - leod «людям - поэзию», monnum - mislice cwidas «мужам - разные стихи» (цит. по: [Матюшина 2006, 28]). Последовательность созвучных имен задает канву рассказа о короле-поэте, увековечивая его образ, раскрывая мотивы его трудов, о которых поведал его биограф Ассер: любовь к старинной поэзии, выдающиеся способности, стремление приобщить народ к словесному творчеству.
Характерно, что одно из имен, эпитет поэта, представляет свернутую глагольную клаузу (leodwyrhta от leod wyrcan «слагать, букв, срабатывать песни»), встречающуюся в древнеанглийском переводе рассказа Беды о поэте Кэдмоне. Его эквивалентом в эддической поэзии служит имя бога Одина как зачинателя поэтического искусства (древнеисланд. Ijodasmidr букв, «кузнец песен»), что, возможно, говорит об общегерманских истоках композита. Моделью для подобных композитов выступали, по-видимому имена собственные германских вождей, служившие героизации их носителей, ср. TEdelraed, производное от edle randan (Widsith, 12b) «вотчиной править» и beaggyfa, beaga brytta Beowulf, 1102a, 1487a), соотносимые c giefe bryttian (Widsith, 102b), beagas bryttian (cp. Beowuf, 1726, 2370) «наделять дарами, кольцами» [Гвоздецкая 2018, 42].
Если в деривационном плане подобные имена представляют свернутые глагольные клаузы, то в плане поэтической наррации они, напротив, дают повод для развертывания заложенной в них информации в рассказ. Можно нередко наблюдать тождество внутренней семантической формы композита и синтаксически соотнесенной с ним глагольной клаузы. Так, поэт «Беовульфа» рассказывает о посещении великаном Гренделем дворца Хеорот, опираясь на имена-эпитеты, воссоздающие целостный образ чудовища. Каждое из них появляется в тексте тогда, когда Грендель собирается совершить то действие, которое запечатлено в его имени. Sceadu-genga «во-тьме-ходящий» приходит ночью (702b-703a), scyn/man-scada «демон/зло-вредитель» собирается заманить и унести воинов во тьму (706-707,712-713), bealo-hydig «зло-замышляющий» врывается во дворец разъяренным (723-724а), ellor-gast «дух-изгнанник», потерпев поражение в схватке с Беовульфом, отправляется в дальний путь (807а-808). То же и в зачине поэмы, где сложные эпитеты полагают начало глагольным клаузам, ср. Hwaet, we Gar-Dena / in geardagum // {jeodcyninga / |эгут gefrunon // hu |эа aedelingas / ellen fremedon (Beowulf, 1-3), «Что ж, мы воинственных данов / в давние дни // великих конунгов / славу узнали, // как те витязи / подвиги совершали». Сложное имя Gar-Dena «копейные (воинственные) даны» подсказывает поэту фразу ellen fremedon «подвиги совершали», композит {aeodcyninga «великих конунгов» превращается в «славу узнали» [Гвоздецкая 2016, 48-49, 53-55].
Имена собственные в «Беовульфе» могут порождать в тексте формульные выражения, отмечающие какую-то значимую черту героя. Так, «говорящее» имя Унферт (Unferd=Un-frid букв, «не-мир») впервые появляется в составе церемониальной речевой формулы, сопровождаемой метафорой ссоры, которую затевает герой, оказываясь нарушителем мира на пиру: Un-ferd ma])elode, Ecglafes beam, <.. .> onband beadurune (499-50la), «Унферт молвил, <.. .> сын Эгглава, развязал руны распри» (Текст «Беовульфа» цит. по [Swanton 1990], перевод автора статьи). Имя Беовульфа («боевой волк» или «пчелиный волк, т.е. медведь») скорее отсылает к силе и храбрости, но в форме номинатива более чем в половине случаев включается в ту же формулу (Beowulf ma])elode, 529а, etc.), чем отмечается значимость монологов героя в композиции поэмы.
Отметим, что сама древнегерманская аллитерационная поэзия выросла из такой «героизирующей» функции имен собственных, связываемых аллитерацией в перечнях имен легендарных германских вождей (тулах) [Смирницкая 1982, 194]. Подобными перечнями изобилует поэма «Вид-сид», монолог странствующего поэта, ср. TEtla weold Hunum, / Eormanric Gotum, etc. (Widsith, 18), «Этла правил гуннами, / Еорманрик готами», и т.п. Аллитерирующие каталоги имен собственных - это прием, позволявший устному сказителю всегда иметь в памяти запас эпических преданий, разворачивая имена в рассказ по мере надобности, ср. Hro])wulf ond Hrodgar / heoldon lengest // sibbe aetsomne, ! <„> П forheowan $t Heorote / Headobeardna ])rym (Widsith, 45-49), «Хродвульф и Хродгар / держали долго // мир между собою, !<...> И порубили у Хеорота / хадобардов рать». В этом примере задают тон имена собственные - антропонимы, топоним и этноним, к которым подстраиваются (здесь созвучные им) глаголы [Гвоздецкая 2018, 30-32].
Подобная техника сказительства проявляется и в поэме «Деор», кратком монологе поэта, который, потеряв место придворного певца, пытается утешить себя, перечисляя имена эпических героев и героинь, претерпевших немало бед. Поэма имеет строфическую композицию; каждая из первых пяти строф начинается именем собственным, за которым следуют глагольные фразы, намекающие на причину несчастий. Так, в первой строфе немногочисленные предикаты вытеснены в последнюю, неаллитерирующую позицию в строке, а смысловую канву фраз составляют нередко аллитерирующие с антропонимом имена, позволяющие вспомнить сюжет:
Веланд, мифический правитель подземных существ, которого пленил и стреножил Нидуд, терпит жестокие страдания. Ср. (Deor, 1-6):
Welund him be wurman / wr$ces cunnade, anhydig eorl / earfoba dreag;
h$fde him to gesi^e / sorg ond longab, wintercealde wraece; / wean oft onfond, si^an hine Nidhad / on nede legde, swoncre seonobende / on syllan monn.
Веланд средь змей / беду узнал,
Эрл одинокий (иначе: упрямый) / невзгоды терпел;
Держал в сотоварищах / тоску и печаль,
Студеную скорбь; / часто с горем дружил,
Когда ему Нидуд / узду наложил,
На сухожилья тяжкие узы / лучшему мужу.
(Текст «Деора» цит. по [Fowler, 1978, 112-113] в переводе автора статьи).
Интересно, однако, что уже к шестой строфе (Deor, 28-34) личные имена сходят на нет, а доля невзгод (earfoda d$l) приписывается некоему горемыке, чей эпитет (sorgcearig) варьирует эпитеты другого страдальца, потерявшего вождя дружинника (modcearig, earmcearig, earfejra gemyndig «печальный, озабоченный бедами»), от чьего лица ведется рассказ в лирической поэме «Скиталец» (Текст «Скитальца» цит. по [Fowler, 1978, 112-113] в переводе автора статьи). Лексические совпадения показывают, что опущение имени собственного - не случайность, а смена жанрового регистра. Фигура нарратора-сказителя, принадлежащего героико-эпическому миру, сливается в «Скитальце» с фигурой абстрактного мудреца (snottor on mode, 111), изрекающего общие истины. Так и в «Деоре» вводится афористическое высказывание, за которым слышится не голос сказителя, а голос анонимного автора поэмы (Deor, 31-34):
M$g [юппе gebencan / b$t geond |ras woruld witig Dryhten / wended geneahhe, eorle monegum / are gesceawad, wislicne bl$d, / sumum weana d$l.
Как не помыслить, / что в мире сем Владыка всеведущий / розно решает, многим эрлам / удачу дарует, всякие блага, / долю несчастий иным.
Характерно, что хотя в последней, седьмой строфе «Деора» приводятся конкретные данные о сказителе (скоп, те. певец, Хеоденингов) и названо имя его соперника (Heorrenda), его собственное имя отнесено к прошлому (me w$s Deor noma, 37b, «Мне было Деор имя»), ибо с потерей творчества теряется и смысл именования певца. Фигура Деора раство- ряется в обобщенной фигуре анонимного автора, которому принадлежит, очевидно, повторяющийся после каждой строфы элегический рефрен: Paes ofereode, / pisses swa m$g, «То миновало, / и это пройдет». Эпический рассказ о конкретных событиях сменяется лирико-дидактическими обобщениями. Тем не менее, герой-нарратор «Скитальца» не остается вовсе безымянным: имя собственное заменяют ему определяющие его личность эпитеты. Утратив социальные связи и превратившись в лирического героя, он не утрачивает героико-эпического мировосприятия, вспоминая пиры и битвы. Может быть, поэтому эпитеты, указывающие в поэме на его отверженность, перекликаясь с другими сложными эпитетами, все же близки известным моделям имен вождей. Так, композит an-haga «одиноко живущий (или: думающий)», с одной стороны, перекликается с an-hydig в «Деоре» (букв, «один-думающий» - одинокий или упрямый), а с другой стороны - с мужским именем An-laf; композит eard-stapa (букв, «по земле ступающий») - с эпитетами Наф-, mearc-, mor-stapa («бродящий по пустоши») или an-stapa, an-laga «одиночка», с одной стороны, и с личными именами, содержащими отглагольный дериват в роли второго компонента, с другой (Ead-gifu «богатство дающая», Ead-r$d «богатством правящий»). Таким образом, характер «встраивания» имени собственного в нарратив в древнеанглийской поэзии и прозе маркирует определенный путь развития словесного творчества: от простой констатации фактов в хрониках и исторических сочинениях, где имя собственное идентифицирует известных личностей, к наполнению его ценностной информацией, которая запечатлевается в устойчивых эпитетах и формульных оборотах, присущих житиям святых и аллитерационной поэзии. Если в первом типе текстов сопровождающие имена глагольные клаузы фиксируют конкретные события, то во втором они отмечают стереотипные черты героя, формирующие его художественный образ. Здесь семантика имени собственного вступает в тесное взаимодействие с его синтаксическим окружением в нарративе, как бы запечатлевая в себе описывающую героя клишированную фразеологию. В результате имя собственное становится носителем всей заложенной в традиции информации о его носителе и обрастает целым рядом сложных эпитетов, всегда готовых «развернуться» в рассказ в виде соответствующих глагольных клауз, что особенно заметно в героико-эпической поэзии. В героических элегиях, где акцентируются не деяния, а страдания героя, соотносимые с общечеловеческой участью, исчезает потребность в идентификации личности, однако роль имени собственного выполняют соотносимые с ним по структуре композиты, обозначающие внелично стный характер персонажа.
Список литературы Имена собственные в поэтике древнеанглийского нарратива (семантико-синтаксический аспект)
- Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов А.В. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994 С. 3-38.
- Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / пер. В. Эрлихмана. СПб., 2001
- Гвоздецкая Н.Ю. Концепт "путь" в поэтическом творчестве англо-саксов (VII-XI вв.) // Древнейшие государства Восточной Европы - 2009: Трансконтинентальные и локальные пути как социокультурный феномен. М., 2010 С. 345- 361
- Матюшина И.Г. Боэций и король Альфред: поэзия и проза // Стих и проза в европейских литературах Средних веков и Возрождения. М., 2006 С. 11-57.
- Метлицкая З.Ю. Англосаксонская хроника IX-XI века. СПб., 2010
- Ненарокова М.Р. Перевод как культурная адаптация: две античные истории в изложении короля Альфреда Великого // Перевод и подражание в европейских литературах Средних веков и Возрождения. М., 2002 С. 76-112.
- Песнь о Хельги сыне Хьёрварда // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975 С. 253-259.
- Смирницкая О.А. Поэтическое искусство англосаксов // Древнеанглийская поэзия. М., 1982 С. 171-232.
- Colgrave B., Mynors R. (eds). Bede's Ecclesiastical History of the English People / ed. and tr. B. Colgrave, R. Mynors. Oxford, 1969
- Fowler R. (ed.). Old English Prose and Verse. An Annotated Selection with Introductions and Notes by R. Fowler. London, 1978
- Swanton M. (ed.). Beowulf. Edited with an Introduction, Notes and New Prose Translation by M. Swanton. Manchester, 1990