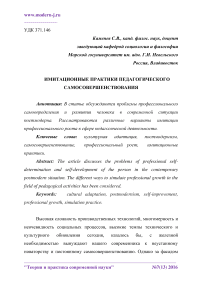Имитационные практики педагогического самосовершенствования
Автор: Каменев С.В.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Образование и педагогика
Статья в выпуске: 7 (13), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статье обсуждаются проблемы профессионального самоопределения и развития человека в современной ситуации постмодерна. Рассматриваются различные варианты имитации профессионального роста в сфере педагогической деятельности.
Культурная адаптация, постмодернизм, самосовершенствование, профессиональный рост, имитационные практики
Короткий адрес: https://sciup.org/140269596
IDR: 140269596
Текст научной статьи Имитационные практики педагогического самосовершенствования
Высокая сложность производственных технологий, многомерность и неочевидность социальных процессов, высокие темпы технического и культурного обновления сегодня, казалось бы, с железной необходимостью вынуждают нашего современника к неустанному новаторству и постоянному самосовершенствованию. Однако за фасадом этой очевидности внимательному взгляду открываются и существенно иные перспективы приспособления человека к бешеной круговерти жизни. Так, весьма неприятной меткой дня сегодняшнего становится широкое распространение разнообразных форм имитации активности и притворного новаторства. Первоначально остановимся на рассмотрении общекультурных обстоятельств, провоцирующих выработку этих непродуктивных стратегий культурной адаптации.
Каждый более или менее вызревший и внутренне полноценный период европейской истории рождал свои типовые модели человека. Для нас сегодняшних, бегло и мимоходом заглядывающим в прошлое, такими типажами видятся: мужественный гражданин античного полиса и фанатик веры средневековья, неутомимый творец Ренессанса и циничный прагматик начала предпринимательской эры, обезличенный индустриальной машиной наемный рабочий и мятежный искатель себя – бунтарь конца шестидесятых. Культурная тональность всякий раз приметно запечатлевалась в общих чертах духовного облика «человека эпохи».
Последние четыре столетия влекомый соблазнами грядущего процветания, сминая время, корабль западной культуры быстро набирал ход. И когда, казалось, контуры совершенного мира стали отчетливо проступать в ближайшей перспективе он сокрушительно налетел на рифы кровавых войн и революций ХХ века. Лелеемые столетиями идеалы разумности, справедливости и прогресса сгинули в пучине мировых боен, кризисов, угроз и рисков. «Словом, которое выражает конец идеала разума, является слово “Освенцим”», – приводит горькие слова французского мыслителя Ж.-Ф. Лиотара А.П. Огурцов [1]. Чудовищные практики насильственного облагодетельствования людей вынудили М. Фуко рассматривать гуманизм как изощренную форму порабощения человека [2]. Не услышанный и не понятый в последние годы «века невинности» (М. Скорцезе) диагноз культуре, выставленный Фридрихом Ницше в двух словах: «Бог умер!» [3], очень скоро беспощадно подтвердился дискредитацией незыблемых прежде идеалов, девальвацией жизненных ценностей, размыванием общесоциальных ориентиров.
На излете второго тысячелетия, мучительно преодолев социальные катаклизмы, перепробовав все мыслимые сценарии прогресса, западная цивилизация выдохлась. Бороться стало не за что и незачем. В наступивших сумерках постмодерна «высь» жизни показалась химерой. Оставалось сосредоточиться на возделывании и приращении её вширь и вдаль. Когда культура начинает топтаться на месте, вдохновенно конструирующий свое будущее субъект истории неприметно сходит со сцены. Оказавшись в пухнущем от разнообразия чреве цивилизации, потерявшей перспективу, наш современник вынужден блуждать в лабиринтах плюрализма без цели, без смысла, без вдохновения. Некогда целостное культурное пространство, спаянное общими идеалами и устремлениями, раскалывается на множество разнонаправленных индивидуальных воль и влечений. Общность жизни становится очень условной и временной. В экономике, политике, искусстве выработанные прежде сценарии социального действия утрачивают эффективность и все чаще оказываются ритуализированной имитацией . Да и сама жизнь в ракурсе индивидуального существования для большинства людей перестает быть осмысленным самосозиданием, превращаясь в череду адаптивных реакций на быструю смену культурных декораций. Стремясь соответствовать духу времени, не поспевая зацепиться за что-то устойчивое и основательное, человек начинает подыгрывать ускользающей реальности, жить не глубоко и не всерьез, а вскользь и понарошку.
Культурная ситуация современности, заметим, представленная в несколько утрированном виде, с неизбежностью провоцирует формирование определенных особенностей в привычных стратегиях человеческого существования. Так, одним из важнейших факторов самоопределения человека всегда являлось профессиональное становление. Ценностные ориентиры «смысла жизни», «осуществления мечты», «жизненного призвания», как правило, ассоциируются именно с успешностью в профессии. До недавнего времени в нашем Отечестве типичный сценарий профессионального развития начинался этапом ученичества, продолжался стадией совершенствования и завершался овладением вершинами мастерства. Реалии сегодняшнего дня существенно корректируют этот сценарий, лишая его перспективы счастливого финала. Высокие темпы технического и социального обновления делают иллюзорной возможность «достичь вершин». Нехитрая житейская мудрость недавних времен: «Первые десять лет работаешь на работу, а потом работа работает на тебя», сменяется жесткой максимой: «Чтобы стоять – надо бежать». Современный труженик в любой сфере деятельности обречен на постоянное и неустанное самодвижение. А в условиях непредсказуемости будущего еще и без всяких гарантий вознаграждения «по заслугам». Для многих наших соотечественников подобная перспектива «всегда быть в пути» является непривычной и чуждой.
Низкая профессиональная мобильность типичного работника советской эпохи обусловливалась устойчивостью и предсказуемостью социальной реальности и рутинным характером производственных технологий. Это позволяло большинству людей довольно быстро выходить на приемлемый уровень освоения стандартизированных стереотипов деятельности и комфортно чувствовать себя «мастером своего дела».
Изменчивое и конкурентное пространство сегодняшней жизни довольно быстро приучает человека к необходимости активного самоутверждения. Однако далеко не всегда это приводит к формированию устойчивой личностной потребности в постоянном самосовершенствовании. Нередко искреннее стремление узнать новое и освоить непривычное подменяется имитацией активности. Тем более что отмеченный выше игровой, имитационный характер работы многих современных механизмов культурного воспроизводства делает такую перспективу и приемлемой, и соблазнительной.
Заметим, что в отличие от естественных механизмов животной активности, человеческая деятельность всегда разворачивается в координатах искусственного, вымышленного. Вся наша жизнь, как известно, – игра. Решающим здесь является уровень вовлеченности субъекта в структуры деятельности, их близость его естеству. Особенность нынешнего дня, и, наверное, его главной проблемой, является катастрофическая удаленность человека от того, что он делает. Сегодня даже самые простейшие сферы приложения человеческих сил отделены от субъекта толщей культурных опосредований. То, что он съест на завтрак, оденет на работу, как проведет свободное время, зависит от эффективности рекламы, капризов моды, изобретательности маркетологов. И только может быть в последнюю очередь от него самого. Жизнь такого субъекта превращается в игру по правилам тех, кто играет по правилам тех, кто играет… Игра в игру. Добраться до самого себя, до собственной самости здесь оказывается крайне затруднительно.
Так и в сфере профессиональной деятельности. Внешняя нудительность социальных ожиданий, должностных предписаний, соображений престижа и корпоративной этики загоняет человека в лабиринты симулятивных практик, где важно вовремя реагировать, ловить момент, соответствовать, а не заинтересовано заниматься любимым делом. По едкому замечанию В. Пелевина, это ситуация, в которой «ты делаешь куклу куклы, и сам при этом кукла» [4]. Печально то, что в круговерти повседневности искреннее и настоящее почти неотличимо от имитированного и симулированного. Особенно в тех сферах деятельности, где её результаты являются отсроченными и неочевидными.
На примере сферы преподавательского труда попытаемся выявить и указать наиболее важные социальные и психологические факторы, обусловливающие сегодня формирование мотивов имитационной практики профессионального самосовершенствования.
Несмотря на масштабные трансформации отечественной культуры, самым значимым обстоятельством, извне стимулирующим профессиональный рост педагога, по-прежнему остается формальное принуждение. Стажировки, курсы переподготовки или повышения квалификации являются важнейшими индикаторами квалификации работников, прямо или косвенно влияющими на их статус и зарплату. Существенен сам факт их прохождения, поэтому в условиях большой занятости и низкой трудовой мотивации педагоги стараются минимизировать усилия по освоению обучающих программ. Традиционные формы обучения открывают путь получения желанного сертификата посредством терпеливого и пассивного пребывания на занятиях, а новаторские индивидуальные и дистанционные технологии без должной содержательной проработки и контроля подчас провоцируют осознанную симуляцию ученичества и прямой обман. Отягощающим обстоятельством здесь является наследие трудовой этики советской эпохи, которая, прежде всего, нацеливала работника на поддержание парадного вида витрины социального предъявления. При этом бездеятельность, леность, пассивность оставались в тени, маскировались ссылками на занятость и усталость. И с лихвой компенсировались фальшивой атрибутикой успешности.
Очевидная социальная ангажированность учительского труда всегда предопределяла стремление педагога «идти в ногу со временем», «держать себя на должном уровне». Иначе говоря: соответствовать социальным ожиданиям. Сегодня в широком общественном восприятии идеальный учитель видится не столько носителем и сеятелем знаний, сколько мобильным, творческим, растущим профессионалом, использующим последние достижения педагогической науки. В условиях чехарды в образовательной политике, низкого социального статуса, ничтожной зарплаты реальное самочувствие большинства педработников весьма далеко от этого идеала. Личностные мотивы профессионального развития куда прозаичней: успеть своевременно отреагировать на приступы реформаторского рвения чиновников, приспособиться к очередной программе, познакомиться с новыми предписаниями и нормативами. Ощутимое рассогласование повседневных профессиональных нужд педагогов и общественных запросов, вкупе с острым ощущением социальной ответственности, приводит к широкому распространению практик ритуального изображения и демонстрации ожидаемых качеств и способностей. Примеров такого рода можно найти немало, если обратиться к опыту проведения аттестации педработников, конкурсов профессионального мастерства; или вспомнить общенациональную гонку школ и учителей за государственными миллионами в рамках приоритетного национального проекта образование.
Помимо указанных социальных факторов, извне провоцирующих демонстративное изображение профессиональной активности педагогов, пунктирно представим индивидуальные, личностно обусловленные мотивы имитации творческого отношения к делу.
Открытость и креативность, как уже отмечалось, становятся почти обязательными элементами современного имиджа педагога. В реальной жизни ищущие и творческие мастера своего дела встречаются нечасто. Пример их деятельность в педагогическом коллективе становится серьезным раздражителем. Задавая высокую планку профессионального мастерства, они пробуждают в своих менее даровитых и успешных коллегах профессиональную гордыню. Последние же с понятным желанием «быть не хуже других» стараются перенять новаторские профессиональные стратегии, что в отсутствии таланта и должного старания зачастую оборачивается соскальзыванием на сомнительный путь непродуктивного имитаторства.
Настойчивые публичные демонстрации творческого потенциала могут также выступать маскировкой ориентации на карьерный рост. Если ключевым мотивом профессионального совершенствования становится «продвижение по службе», то зачастую собственно педагогическая деятельность отходит на второй план, приобретает симулятивный характер. Причем при наличии специфического чутья и манипулятивных способностей такие педагогические симулякры вполне могут обеспечить успех карьеры. Отметим, однако, что истинные мастера своего дела редко бывают озабочены штурмом административных вершин.
Увлеченность в освоении новаций может выступать парадоксальным симптомом неудовлетворенности профессией . Создающая внутренний дискомфорт неприязнь к работе компенсируется своего рода «бегством в будущее», посредством которого недовольный жизнью труженик пытается обрести смысл существования. Однако изначальная неукорененность в профессии, отсутствие искренней заинтересованности в результатах труда неизбежно превращает такой «поиск нового и интересного» в химеру.
Такой же механизм «химеризации» профессионального роста срабатывает и в том случае, когда потребность в самообновлении обусловлена не профессиональной исполненностью, жаждущей новизны, а, напротив, порождена страхом и неуверенностью. Комплексующий от своей несостоятельности работник находит самооправдание в бурной имитации деятельности по самосовершенствованию. Тревожность педагога, обеспокоенного возникающими проблемами, замещается надеждами на обретение надежного средства лечения всех профессиональных недугов.
Такой перебор сценариев самосовершенствования в профессии может также обрести вполне самостоятельный смысл. Подобная увлеченность педагогической инноватикой является порой симптомом психологической инерцией обновления, тяги к перемене мест. Получив однажды заряд новаторской энергии (на конкурсе, конференции, курсах), педагог не может остановиться и сосредоточиться на рутинной и тяжелой работе по реализации нового. Знакомство с передовым опытом, участие в обучающих семинарах, тренингах, проблемных дискуссиях становятся самоцелью. Погоня за дипломами, сертификатами, свидетельствами превращается в своего рода коллекционирование достижений. Надо ли объяснять, что смысл такого профессионального самосовершенствования зачастую теряется, вырождаясь в очередной вариант симулятивной практики.
В заключение скажем, что в современном мире учительский труд становится всё более неприметным и неблагодарным: из социального поводыря и духовного пастыря педагог необратимо превращается в помощника и консультанта. Этот процесс обусловлен объективной логикой эволюции развитой цивилизации [5]. Работать на преподавательском поприще с душой и самоотдачей мучительнее и труднее, чем делать вид, изображать и притворяться. Долго не протянешь. И пусть тем, кто всё же осмеливается по-настоящему жить в учительской профессии, будет утешением мудрый завет римского философа Сенеки: «Жизнь как пьеса: не то важно, длинна ли она, а то, хорошо ли сыграна» [6]…
Список литературы Имитационные практики педагогического самосовершенствования
- Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования. Западная философия образования. ХХ век. _СПб.:РХГИ, 2004. - С. 416.
- Фуко M. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. с фр. В. Наумова под ред. И. Борисовой. - M.: Ad Marginem, 1999.
- Ницше Ф. Так говорил Заратустра. -М.:Изд-во Моск. ун-та, 1990. С. 11.
- Пелевин В.О. ДПП (НН). -М.: Эксмо. 2015. - 384 с.
- Каменев С.В. Цивилизационные контуры эволюции образования в современной России // Экономика и социум: Электрон. периодическое издание. - 2014. - 2(11). - С. 599-607. URL: http://www.iupr.ru/domains_data/files/sborniki_jurnal/Zhurnal _2(11) - 5.pdf
- http://persons-aforism.ru/aforizm/6213 (дата обращения 05.07.2016)