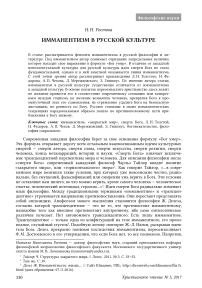Имманентизм в русской культуре
Автор: Ростова Наталья Николаевна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Статья в выпуске: 5 (76), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается феномен имманентизма в русской философии и ли- тературе. Под иммантизмом автор понимает отрицание запредельных величин, которое находит свое выражение в формуле «Бог умер». В отличие от западной интеллектуальной культуры для русской культуры идея смерти Бога не стала фундаментальной, однако и в ней заметной оказывается линия имманентизма. С этой точки зрения автор рассматривает произведения Л. Н. Толстого, Н. Фе- дорова, А. П. Чехова, Д. Мережковского, З. Гиппиус. По мнению автора статьи, имманентизм в русской культуре существенно отличается от имманентизма в западной культуре. В основе попыток переосмыслить христианство здесь лежит не желание привести его в соответствие современному сознанию или конкретным нуждам социума, не желание возвысить человека, превратив Бога в промежуточный этап его становления, не стремление удалить Бога на безопасную дистанцию, но ревность по Богу. Русское сознание в своих имманентистских тенденциях парадоксальным образом пошло по противоположному пути приближения к Богу живому
Имманентизм, "закрытый мир", смерть бога, л. н. толстой, н. федоров, а. п. чехов, д. мережковский, з. гиппиус, богоискательство, фило- софия сакрального
Короткий адрес: https://sciup.org/140223457
IDR: 140223457
Текст научной статьи Имманентизм в русской культуре
заявляет Делез, если Бога нет, то ничего нельзя!4 Все сковано предметностью, объективировано, всему предпослан смысл. Если прежде высвобождение было обеспечено Богом, то теперь философия ищет выход в телесности. И за ней поспевает живопись. Визуализацию философии «закрытого мира» мы находим, например, в творчестве Ф. Бэкона или Л. Буржуа. Здесь тело — это уже не организм, не то, что задано анатомией, но и не то, что движимо логикой духа. Тело здесь указывает организму и сознанию занять скромное место и обнаруживает себя в качестве первичной стихии, предоставленной себе в экспериментах по самоконфигурированию.
Другой вариацией западной философии, воспринявшей идею смерти Бога, является так называемая философия сакрального ХХ века. В основе нее лежит идея противопоставления Богу — «богов». «Боги», в отличие от Бога, подручны и близки. Бог трансцендентен и един. «Боги», или, что в данном случае то же самое, сакральное, священное, нуминозное, символическое, — множественны и имманентны. В предельном варианте философия сакрального выстраивает себя на противопоставлении сакрального и Бога. Как заявляет яркий представитель этой философии Ж. Батай, Бог — это антисакральное.
Идея смерти Бога настолько фундаментальна для западного сознания, что проникает даже в сферу теологии. В 60-е гг. ХХ века возникает целое движение под названием «теология смерти Бога». Однако сферу влияния идеи смерти Бога стоило бы расширить. Речь идет не просто о локальном явлении, но о мощной тенденции в западном богословии в целом. К проявлениям имманентизма здесь можно отнести трансцендирование теизма, попытки теологов использовать в качестве основания своих концепций обезличивающую Бога онтологию Хайдеггера, введение представлений о тотальной процессуальности Бога, проект демифологизации и лишение Бога сверхъестественных характеристик, редукцию Бога к понятию любви и существованию для других, подмену мистической сути Церкви социальным служением. Подобные способы имманентизации Бога делают Его не только подручным и понятным современному человеку, но нередко — и зависимым от него. Если для западной интеллектуальной культуры идея смерти Бога фундаментальна, то что можно сказать о русской культуре?
Отношение русского сознания к «смерти Бога» выражено в романе Достоевского «Бесы». Девочка Матреша, соблазненная Ставрогиным, в агонии шепчет: «Я Бога убила». Шепчет, а затем идет в чулан и надевает петлю на горло. Достоевский говорит нам: человек возможен только там, где есть Бог. Смерть Бога неминуемо влечет за собой духовную смерть человека, логическим завершением которой является буквальная смерть. И тем не менее, в русской философии заметной оказывается линия имманентизма, не столь откровенная и доминирующая, как в Европе, но по своим последствиям не менее радикальная. Ее олицетворяют, по крайней мере, несколько крупных фигур нашей интеллектуальной культуры: граф Толстой, Н. Федоров, А. П. Чехов, Д. Мережковский, З. Гиппиус. Философы и классики литературы здесь не случайно оказываются рядом, обнаруживая специфику русской философии, которая зачастую присутствует за пределами собственно философии — в литературе и в живописи.
Разбирая спор Л. Толстого и В. Соловьева о государстве в его отношении к Царству Божьему, Евгений Трубецкой говорит о горечи яда того имманентизма, который прикрывается религиозными понятиями. Имманентизм в чистом виде, как полное отрицание запредельного и признание абсолютной истины за условным и посюсторонним, говорит Трубецкой, не так страшен для религиозной мысли. Гораздо опаснее, говорит он, «…для нее те компромиссные, смешанные формы имманентизма, где утверждение здешнего прикрывается теми или другими религиозными формулами, где трансцендентное, Божественное, незаметно для неискушенного глаза заслоняется той или другой земной величиной. Этому имманентизму заплатили ту или иную дань почти все религиозные мыслители, а в их числе — Соловьев и Толстой»5. Для искушенного взгляда Трубецкого очевидно, что Царствие Божие, покуда оно не от мира сего, не может явить себя ни в форме теократии, ни в форме анархии, ни в форме государства, как предлагали Соловьев и Толстой. Оно вообще не может быть утверждено в естественном порядке, и всякая попытка такого утверждения, сколь бы она ни содержала ссылок на Евангелие, есть опасное прикровенное утверждение правды относительного и земного.
Имманентизм, именно тот, который имел в виду Трубецкой, содержащий соблазняющий религиозный пафос, имеет разнообразные вариации. В случае с Л. Н. Толстым он отнюдь не ограничивается учением о государстве.
1. Л. Н. Толстой: задыхаюсь без Бога
«…вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей блаженства на небе, но дающей блаженство на земле».
Л. Н. Толстой. Запись из дневника от 4 марта 1855 года
Религиозные поиски графа Толстого привели к тому, что священноначалие в официальном определении и послании Святейшего правительствующего синода (от 20–22 февраля 1901 года) вынуждено было объявить о нем как о человеке, отпавшем от Церкви, отвергающим ее основания, а потому не имеющем более возможности считаться ее членом. В своем ответе на постановление Синода Толстой упрекнул Церковь в двусмысленности ее послания, которое не является вполне отлучением, но лишь производит такое впечатление. Тем не менее, отпадение было констатировано, и граф закончил жизнь, так и не вернувшись в лоно Церкви, хотя его верная жена Софья Андреевна все же нашла священника, который совершил над ним последнее богослужение.
Толстой не спорил с постановлением Синода. Напротив, в своем ответе он со всей определенностью подтвердил его положения. «То, что я отрекся от Церкви, называющей себя Православной, — заявил Толстой, — это совершенно справедливо. Но, — добавляет он, — отрекся я от нее не потому, что я восстал на Господа, а, напротив, только потому, что всеми силами души желал служить Ему. Прежде чем отречься от Церкви и единения с народом, которое мне было невыразимо дорого, я, по некоторым признакам усумнившись в правоте Церкви, посвятил несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение Церкви; теоретически я перечитал все, что мог, об учении Церкви, изучил и критически разобрал догматическое богословие, практически же строго следовал в продолжение более года всем предписаниям Церкви, соблюдая все посты и все церковные службы. И я убедился, что учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же — собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающего совершенно весь смысл христианского уче-ния»6. Толстой выступил против учения о Богочеловечестве Христа, признав в Нем лишь человека, против учений о Воскресении и Непорочном зачатии, о загробных муках и рае, о Троице и первородном грехе, против почитания икон и мощей, против таинств и обрядов, посчитав их грубыми суевериями и колдовством, против преемственности Нового Завета Ветхому Завету. Какому же Богу Толстой пожелал служить всеми силами? Демифологизированному, лишенному плоти и конкретики Богу, понятому как «дух», «любовь» и «начало всего». «Верю я, — говорит Толстой, — в следующее: верю в Бога, Которого понимаю как Духа, как Любовь, как Начало всего. Верю в то, что Он во мне и я в Нем. Верю в то, что воля Бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, Которого понимать Богом и Которому молиться считаю величайшим кощунством. Верю в то, что истинное благо человека в исполнении воли Бога, воля же Его в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними, как и сказано в Евангелии, что в этом весь закон и пророки. Верю в то, что смысл жизни каждого человека поэтому только в увеличении в себе любви, что это увеличение любви ведет отдельного человека в жизни этой ко все большему и большему благу, даст после смерти тем большее благо, чем больше будет в человеке любви, и вместе с тем более всего другого содействует установлению в мире царства Божия, т. е. такого строя жизни, при котором царствующие раздор, обман и насилие будут заменены свободным согласием, правдой и братской любовью людей между собою»7.
Толстой переломного времени «Исповеди» — это другой Толстой. Теперь это не только писатель и мифотворец русской души, отныне это пророк. И пророчествует он о новом практическом и земном христианстве, понятом через призму собственного разума, грезы о котором приходили ему еще в молодости. Не «внешний Бог», говорит Толстой, но «разумение жизни» есть начало всего8. Не Церковь, ее «странные» догматы и «уничтожающие христианское настроения» правила, осуждение иных народов и вер, а значит, одобрение гонений и войн, составляют подлинный дух христианства, но учение Христа, Который проповедует «любовь, смирение, унижение, самоотвержение и возмездие добром за зло»9. Не загробная жизнь заключает в себе смысл христианства, но здешняя, наша жизнь составляет его высшую цель. Вечности Толстой противопоставляет подлинность настоящего. «Учение Христа, — говорит он, — устанавливает царство бога на земле»10. Христос проповедует не загробную жизнь, а «общую жизнь», противостоящую личной и эгоистической. Веру в будущую жизнь Толстой называет «низменным и грубым представлением, основанным на смешении сна со смертью и свойственным всем диким народам». Иудео-христианское же учение, по мнению Толстого, стоит «неизмеримо выше его»11. Толстой благословляет и трепещет перед этой жизнью, подлинность которой измеряется следованием заповедям. Разумный человек может усомниться в загробной жизни, но не может сомневаться в своем спасении через самоотречение и служение людям. «Если, — говорит Толстой, — могут найтись люди, которые усомнятся в загробной жизни и спасении, основанном на искуплении, то в спасении людей, всех и каждого отдельно, чрез указание неизбежной погибели личной жизни и истинного пути спасения в слиянии своей воли с волею отца, не может быть сомнения… Всякое осмысливание личной жизни, если она не основывается на отречении от себя для служения людям, человечеству — сыну человеческому, есть призрак, разлетающийся при первом прикосновении разума. В том, что моя личная жизнь погибает, а жизнь всего мира по воле отца не погибает и что одно только слияние с ней дает мне возможность спасения, в этом я уж не могу усомниться»12. От еврейского учения христианство, по мнению Толстого, отличается лишь своей универсальностью, но отнюдь не аскетическим отношением к миру. «Разница, — говорит он, — только в том, что служение богу Моисея было служение богу одного народа; а служение отцу Христа есть служение богу всех людей»13.
Осуществив грандиозный перевод Евангелий, Толстой дерзнул говорить о нужном и ненужном в священных текстах, о том, что может считаться важным и чем следует пренебречь как «грязью и тиной», легендами и ложными напластованиями, отвечавшими нуждам времени. Разъясняя, как читать Евангелие, Толстой так и учит: возьмите, говорит он, два карандаша — синий и красный, — одним подчеркните то, что вы поняли, а другим те слова из понятого, что принадлежат Христу. Пытайтесь уяснить выделенное красным и через это понять все остальное и отличайте слова, выделенные синим, как слова писателей Евангелий, но не самого Христа. Но что же делать с тем, что все же осталось неуясненным, ведь в учении Христа «так много странного, неправдоподобного, непонятного, даже противоречивого, что не знаешь, как надо понимать его»14? Ничего. Отмеченные красным места, говорит Толстой, «дадут читателю сущность учения Христа»15. И этого довольно. Здесь Толстой не просто предлагает избавиться от «легенд» и «суеверий», но приглашает к предельно приватному пониманию Бога, Бога на свой вкус и лад, ограниченного предпочтениями и особенностями частного. Авторитет Писания уступает авторитету личного прочтения.
Отрицание Толстым обрядов и авторитетов не помешает ему составить свои «че-тьи-минеи», сборник цитат, афоризмов и поучительных рассказов на каждый день, названный им «Круг чтения». Но отныне источником света становятся не святые, а мудрые мира сего. Например, Локк, Сенека, Шопенгауэр или китайская народная традиция. Толстой идет по всем направлениям имманентизма, ограничивая человеческое и божественное сферой практического и разумного, выискивая естественный свет религии, всецело обращаясь к тотальности земного. Неслучайно Сергей Булгаков связывал духовную богатырскую мощь Толстого с природным началом: «в нем, — говорил он, — было нечто глубинное, потустороннее, но это была потусторонность не божественнаго мира, а природной души, великаго Пана…»16. Созвучно Дмитрий Мережковский говорил о Толстом как о великом язычнике17. Феофан Затворник однозначно почитал Толстого как врага Божия и помешанного. Толстой, говорил он неоднократно в своих письмах, принадлежит стаду антихристову.
И все же невозможно сводить проповедь Л. Н. Толстого к нравственному самосовершенствованию, поиску общего для всех народов разумного начала жизни, перед которым равны Будда и Христос, к подмене фигуры личного Бога-Творца, снисходящего до нас в Своей благодати, пантеистическим представлением о всемирной душе, частью которой являются люди, звезды и всё остальное в этом мире, к противопоставлению чистого духа пошлости буквы и учения Христа — лжеучению Церкви, к призыву служить людям и самоотречению, к земному торжественному и радостному «здесь», противостоящему аскетизму, который есть не что иное как «обман воображения»18. К подмене Бога «стремлением» к Богу19 и идеалом любви. Все это «сухой остаток» того могучего стремления постичь тайну человека, которое было явлено в фигуре Л. Н. Толстого. И мощь здесь, боль и рвение соперничают с имманентистскими сентенциями, в которых оседает порыв. Розанов как-то назвал Толстого криво выросшим дубом20. Хотя этот дуб и кривой, а все же, и в первую очередь, это дуб, — говорит нам Розанов. И невозможно с ним не согласиться. Невозможно равнодушно читать Толстого, его слова о том, как он постигает Бога, как задыхается без Него. «Если, — пишет Толстой, — человек и не знает, что он дышит воздухом, он знает, что когда он задыхается, у него чего-то нет такого, без чего он жить не может. То же бывает и с человеком, когда он потеряет
Бога, хотя он и не знает, отчего страдает»21. Творчество и религиозный порыв Толстого дали не только «кривую» ветвь толстовства, но отозвались, и по сей день отзываются, в душе каждого чувствующего человека.
2. А. П. Чехов: высокие смыслы
Дух дышит, где хочет (Ин 3:8)
У Чехова есть один небольшой рассказ, который передает весь дух имманентизма. Он называется «Студент». Чехов считал его своим любимым рассказом. Существенно не то, что Чехов неоднократно объявлял себя в письмах неверующим, что в момент смерти Святым Дарам или молитве предпочел бокал шампанского, и не то, что че-хововеды сегодня гадают о подлинном отношении писателя к вере, сличая его переписки, творчество и воспоминания современников. Важно то, что сам Чехов просто и недвусмысленно представил в качестве своего видения в любимом рассказе. О чем он повествует?
Рассказ повествует будто бы о двух преображениях. Старухи-матери и ее дочери с выражением лица «странным, как у глухонемой», — в чувствующие, страдающие, глубоко переживающие души. И промерзшего голодного студента — в возвышенного пламенного мечтающего юношу. О той нити красоты и добра, которая оказалась общей глубинной сутью столь непохожих людей и, главное, — людей вообще. Но речь не об этом. И напрасно специалисты-филологи видят в этом рассказе просвет взаимопонимания между людьми. Чехов, следует думать, вопреки своим намерениям, напротив, живописует колоссальный разрыв между людьми. Не между людьми глупыми и образованными, а между людьми религиозными и нерелигиозными.
В своего главного героя он вкладывает максимум духовности, максимум глубины миропонимания, говоря о нем как об образованном студенте духовной академии. И этим максимумом оказывается нарочито горизонтальное и весьма неопределенное содержание — «правда и красота», «таинственное счастье», «высокий смысл», непостижимая связь людей и поколений, «чувство молодости, здоровья и сил». Рассказ об отречении Петра обнаружил всю ту пропасть между студентом и женщинами, послужив для студента в силу его профессионального уклона поводом для размышлений, а для женщин — сутью их духовной конституции. Студент говорил. Женщины плакали. Студент думал. Женщины переживали. Студент возрадовался идеям красоты и правды. Женщины, отстояв службу, вновь пережили спасительные страдания Христа. Для студента апостол стоит в ряду исторических личностей, например, Рюрика или Ивана Грозного. Для женщин Петр — приближенный ко Христу. Студент своим рассказом не пробудил немые души, сравнив нынешнюю ночь с великой для христианской истории ночью, но обнаружил силу формы, ибо его духовная чуждость христианству никак не отразилась на форме, чистом рассказе евангельской истории, извечно живом для христиан. Своими слезами женщины не раскрыли за своей нелицеприятной внешностью неожиданную глубину веры в «правду и красоту», но утвердили себя вновь как верующих во Христа. Апостол им оказался «близок» не потому, что обнаружилась преемственность неких вечных истин, но потому, что для христианина христианская история принадлежит не прошлому, но всецело настоящему, а Рождество, Страсти и Воскресение — это то, что непосредственно переживается в непрестанно возобновляющейся жизни культа. Здесь не состоялось открытия, ибо женщины и прежде были верующими, здесь произошел самообман студента, который счел содержанием своей веры абстрактные и имманентные миру категории и наделил ими бездушных для него доселе женщин. Слезы женщин не раскрыли для него, но, напротив, скрыли суть их христианских душ. Чехов обманулся вместе со студентом, поселив в его сердце томление пышущей молодости и сопоставив это томление с пасхальной радостью; заменив свободный акт любви Бога в творении и нисхождении, требующий столь же свободного акта восхождения человека к Богу, представлениями о безличных, подобных року силах правды и красоты, «направляющих» жизнь мира от века. Редукцию трансцендентного к имманентному Чехов парадоксально решил сделать духовной лестницей. Несоизмеримость сознаний женщин и студента сопоставима с несоизмеримостью трансцендентного и имманентного, нездешнего и земного, духовного и чувственного, живого и абстрактного, свободного и фатального, аскетизма и чувства здоровой молодости, Бога и мира.
Не случайно Чехов так любим европейскими читателями и более им знаком, чем, например, Пушкин. Причина видится не столько в особенностях перевода поэзии и прозы, сколько в трудностях метафизического перевода. Ментально Чехов оказывается ближе европейскому сознанию, хотя, как известно, ему не менее близок и Достоевский.
3. Д. Мережковский: христоборчество как близость ко Христу
Царство Мое не от мира сего (Ин 18:36)
«Умер Бог в человечестве, но не в человеке»27, — говорит Д. Мережковский. Но под смертью Бога он подразумевает отнюдь не светское сознание, но именно хри- стианское. Это христиане убили Бога, превратив его в чистый дух и противопоставив одинокой плоти. Это христиане убили творчество, замкнувшись в догматах. Это христиане не смогли создать Церкви как единения в любви и свободе и на деле имели организацию, основанную на насилии. «Дух, — говорит Мережковский, — „вознесся на небо“, в область отвлеченных идей, а на земле остался гроб с мертвыми костями человека, умершего и не воскресшего»28. Иисус по-прежнему остается неизвестным. Но потребность в Боге извечна в человеке. И Мережковский предлагает искать подлинной Церкви и подлинной религии, заявляя, что христоборцы, восстанавливающие права плоти перед духом, ближе ко Христу, чем христиане, ибо они стоят на пути чаемого синтеза небесного и земного29.
Правда, обвинив современное христианство в спиритуализме, аскетизме, догматизме, репрессии плоти духом, брезгливости к браку и полу, Мережковский делает куда более радикальный шаг. Он ставит под вопрос не только современное и даже не только в целом историческое христианство, но христианство и Христа как таковых. Они оказываются тем, что должно быть преодолено, ибо христианство и Христос есть линия непреодолимого раздела между духом и плотью, небесным и земным, трансцендентным и феноменальным. «Боже Мой, Боже Мой! Для чего ты Меня оставил?» (Мф 27:46) — эти слова Христа на кресте Мережковский понимает как апофеоз разделения мира. Здесь, говорит он, «совершилось последнее разъединение»30.
Христианство Мережковский предлагает понимать сквозь призму «религии Троицы», по выражению Н. Бердяева. Перекликаясь с мистикой Иоахима Флорского, он выдвигает идею Третьего Завета, проповедуя наступление эпохи Духа. Христианство оказывается не «всем», а только «частью», «посредствующей, переходной ступенью в религиозной эволюции»31. Основой этой эволюции является диалектическое движение от первичного непосредственного синтеза Бога и мира через дифференциацию к окончательному опосредованному синтезу. На последнем этапе соединятся дух и плоть, небесное и земное, логос и космос, и Церковь обнаружит себя на земле. «Церковь, — говорит Мережковский, — есть Царство Божие на земле, как на небе»32. Она не только сфера духовного, внутреннего и небесного, но и плотского, внешнего и земного. Но для того, чтобы эпоха Духа настала, уточняет Мережковский, «мир должен окончательно выйти из второго момента… выйти из религии Сына — из христианства: в настоящее время, в кажущемся отречении от Христа это необходимое выхождение и совершается»33. Эпоха Духа вступает в свои права. «Ныне, — заключает Мережковский, — религиозное сознание человечества и восходит на эту ступень. Христианство кончается, потому что оно до конца „исполнилось“, подобно тому, как „закон и пророки“ окончились с пришествием Христа. Христос не нарушил, а исполнил закон. И Дух не нарушит, а исполнит христианство»34.
К сторонникам и сотворцам теории Третьего Завета нужно отнести З. Гиппиус. Не только потому, что, по воспоминаниям современников, она играла в союзе с Мережковским «мужскую», оплодотворяющую роль, сея в его ум идеи. Не только потому, что она была организатором домашних богослужений новой церкви по сочиненному вместе с мужем чину, шила из красного атласа покрывала, с трудом выкупала в церкви необходимые сосуды, уговаривала Философова и других потенциальных сторонников своих идей выступить третьим в их домашнем таинстве, о чем в детективном стиле она поведала в своих дневниках35. Не только потому, что она была одним из инициаторов религиозно-философских собраний и одним из организаторов журнала «Новый путь». Но и потому, что многие идеи Третьего Завета Гиппиус высказала прямо в своей прозе и поэзии. В статьях «Хлеб жизни» и «Влюбленность» обсуждается тема духа и плоти, критикуется идея авторитарного Бога. Отец в своей любви, говорит Гиппиус о покаянии, никогда бы не допустил обращения к нему в унижении, на коленях36. В стихотворении «Любовь» (1900) она пишет:
…В начале было Слово. Ждите Слова.
Откроется оно.
Что совершалось — да свершится снова, И вы, и Он — одно.
Последний свет равно на всех прольется,
По знаку одному.
Идите все, кто плачет и смеется,
Идите все — к Нему.
К Нему придем в земном освобожденьи,
И будут чудеса.
И будет все в одном соединеньи — Земля и небеса.
Вот это чаяние соединения земли и неба, суть которого фактически состоит в подмене неба землею, — ключевая имманентистская идея теории Третьего Завета. Созвучные Мережковскому идеи можно найти и у других мыслителей. И Розанов восстанавливал в правах пол. И Бердяев выдвигал идеи личного творчества — сотворчества Творцу, и отдавал предпочтение отношениям любви, а не страха между человеком и Богом. И Булгаков видел в Фейербахе и Конте проявление не атеизма, но лишь однобокого богочеловечества, и вслед за Соловьевым37 предлагал внести этих мыслителей в святцы38. Но только Мережковский решился говорить об обоже-нии вне христианства, по ту сторону христианства, водрузив Вселенскую Церковь на земле. Чем помешало ему христианство? Почему он отверг слова Христа о том, что Он и Отец — одно (Ин 10:30)? Видимо, из-за духовной поспешности. Христианство решает проблемы пола, страха, свободы, человека в его достоинстве богочеловека, единения человека и Бога, но обращает христианина к несказанному грядущему, к тому, чего глаз не видел, ухо не слышало и что не приходило на сердце человеку (1 Кор 2: 9–10). Но этому грядущему предшествует преодоление греха, подступ к Богу в страхе и смирении, опознание воли Бога и в себе — Его образа. Этот предшествующий этап относится к нынешнему земному состоянию человека. Мережковский же жаждет иметь грядущее здесь и сейчас, сказанным во всей определенности, пропустив при этом необходимый в христианстве этап испытания и осознания греха. Именно поэтому ему мешает христианство — тем, что за желанный синтез нужно заплатить идеей греха и его преодоления.
Идея Третьего Завета предвосхищает многие идеи западной теологии ХХ века, для которой человек вдруг становится «совершеннолетним» существом, решившим проблему греха и находящимся с Богом на равных. Мережковский имманентизиру-ет человека миру, желая видеть и в том, и в другом совершенство. Именно поэтому он, минуя страх, выдвигает идеал любви, минуя авторитет догмы, теоретически и практически предпочитает творчество и фактически упраздняет идею трансцендентного, видя человека уже сидящим одесную Отца — здесь, на земле. Но обычные человеческие страх и сомнение перед практикой новой церкви, о которых неоднократно свидетельствует З. Гиппиус в своих дневниках, выдают фактическое несоответствие идеи Третьего Завета существующему порядку вещей. В теоретическом же плане Третий Завет означает слияние человека с миром и замещение Бога активностью «я».
4. Н. Федоров: имманентное воскрешение
Нам нужно знать, куда должно идти, чтобы ходить в законе Господнем, что нужно делать, чтобы творить дело Божие, чтобы пути человеческие сходились с путями Божиими…
Н. Федоров. «Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т. е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства»
Имманентен или трансцендентен Бог? Вопрос этот, говорит Федоров, будет решен, когда все люди объединятся в общем деле воскресения. «Не удалять, — пишет он, — следует Бессмертное Существо из мира, оставляя мир смертным, несовершенным, как не должно смешивать Бога с миром, в коем царствует слепота и смерть; задача заключается в том, чтобы и самую природу, силы природы, обратить в орудие всеобщего воскресения…»39 Федоров предлагает проект демифологизации христианства, понятый им, в отличие от западной теологии, не как радикальное приведение истины к абстракции, но, напротив, как радикальное возведение истины к конкретике. Не дух и мысль, но дело — сущность христианства. Начало дела положил Христос в Своем Воскресении. Теперь это дело, по мысли Федорова, должно сделаться всеобщим для человечества, которое уже не будет иметь в нем религиозных или сословных различий. Человек есть «воскреситель». Его сущность и долг заключаются в воскрешении предков. Не «мифическая патрофикация», но «действительное вос-крешение»40 — вот смысл жизни.
Федоров — не Леонид Андреев. Он не испытывает ужаса перед воскресшими телами. Не воображает себе Лазаря, вышедшего из гроба, с опухшими синеватыми пальцами, со взглядом, который не может вынести никто из живых. Напротив, Федорова волнует «санитарный вопрос», связанный с гниющим останками. Воскресшее же тело есть тело преображенное, чистое. Но что значит эта конкретика христианского дела? Что значит человек как орудие всеобщего воскресения?
В основе ошеломляющего проекта Федорова, содержащего массу отсылок к Евангелию и фигуре Триединого Бога, лежит ряд онтологических и антропологических редукций. Воскрешение он называет имманентным, противостоящим обращенности к трансцендентному. «Признавая имманентное воскрешение, — пишет он, — мы полагаем предел пытливости человеческой, направленной к трансцендентному, к мысли без дела; но, осуждая спиритизм и вообще стремление к внемирному, мы не стесняем, однако, человека, ибо показываем, что область доступного ему имманентного так широка, что нравственное, родственное чувство, всемирная любовь найдет в ней полное удовлетворение»41. Федоров обращает человека не к «внемир-ному», а к миру. Не к трансцендентному, а к имманентному. Трансцендентное он редуцирует до умозрительного, оставляя проблему Бога и благодати в стороне. Мир, говорит он, должен быть воссоздан силами самого человека42. Хотя он может быть воссоздан и силою одного Бога, но в отношении бездействующих это будет выражением гнева.
Неоднократно называя воскрешение волей Бога, его главной заповедью, он тут же может написать: «…объединение сынов для воскресения отцов есть исполнение не своей лишь воли, но и воли Бога отцов наших, также нам не чуждой»43, — поставив волю человека в ряду с волей Бога и снова обнаружив фигуру Бога в стороне.
Мысля христианство строго как дело, трансцендентное измерение религии Н. Федоров заменяет имманентным измерением религии, назвав Бога «Богом отцов» и с(воз)ведя христианство до культа предков — «истинной» религии. «Воскресение Христово, — пишет он, — неотделимое от всеобщего воскресения, есть полное выражение культа предков; в этом полнота и религии. Почитать Бога и не воздавать должного предкам (отвергать культ их) — это то же, что любить Бога, которого не видим, и не любить ближнего, которого видим. Удаление от отцов, отречение от культа предков, заключает в себе нарушение верности не отцам только, но и Богу отцов»44. Культ предков — это «видимое» Бога, и именно это видимое определяет суть христианства.
Смещению доминанты трансцендентной перспективы в пользу имманентной сопутствуют упрощения в антропологии. Н. Федоров называет человека сознанием природы. В скорби сына по потере отца, говорит он, природа осознала свое несо-вершенство45. Превращение «слепой», «смертоносной» силы природы в «живоносную», управление ей человеком мыслится Федоровым в эволюционистских терминах — как апофеоз в жизни природы, достижение ею сознания.
Грехопадение и искупление человека, составляющие метафизический каркас христианина, переосмысливаются Федоровым также в терминах бессознательной природы, которую человеку предстоит сделать осознанной и управляемой. Падение мира он видит не в испытании свободы человека и удалении его от Бога, но как царство необходимости и удаление людей друг от друга. «Истинно мировая скорбь, — говорит он, — есть сокрушение о недостатке любви к отцам и об излишке любви к себе самим; эта скорбь об извращении мира, о падении его, об удаленности сына от отца, следствия от причины»46. Удаление сына от отца имеет внешнюю причину, которую и следует устранить. «Для неученых, — говорит Федоров, — история начинается Эдемом рождения, или создания, и состоит в вынужденном внешнею необходимостью (приростом населения и истощением средств жизни) удалении от могилы праотца и в постоянном стремлении возвратиться к ней»47. Лишенный представлений о собственном грехе человек призван исправлять не себя, но мир, его законы, в соответствии с которыми сыны приходят в мир ценою жизни отцов. Воскресение, говорит Н. Федоров, есть управление слепой силой природы, превращение несвободного мира, детерминированного физической необходимостью, в сознательный мир48, то есть оно понимается не как восстановление связи с Богом ценой трансформации человеком своего существа, но как восстановление связи человечества ценой изменений мира. Акцент с человека и его свободы смещается в сторону мира и закона необходимости, с Бога — на человечество.
В литературе подобная критика учения Федорова не нова. Трудно не согласиться с Флоровским, который обличает Федорова в том, что о Христе он говорит «очень редко, мало и неясно», что смерть для него оказывается всего лишь «натуральным изъяном, недоразвитостью природы и мира»49. Сложно не согласиться с Бердяевым, который обращает внимание на то, что в учении Федорова игнорируются «иные миры», а слово «мистика» употребляется лишь в отрицательном значении50. И все же Н. Федоров — одна из самых загадочных фигур в русской культуре. Его «утопизм», «мечтательство», в которых его обличает критика, нисколь не помешали, а быть может, напротив, послужили силой притяжения к его теории и личности самых мощных умов России — Толстого, Достоевского, Соловьева, Булгакова, Ильина, Шестова. Учение Федорова — это не утопизм, а горение Богом. Истовое, не разменивающееся по мелочам. Неслучайно И. Ильин сравнивает его с Серафимом Саровским, ибо святость Федоров понимает конкретно, как тотальное осуществление христианской правды во всей ее универсальности и радикальности. Святой — не мечтатель. Святой — тот, кто жизнь подчиняет Богу, кто ревнует о Нем.
5. Ревность по Богу
Русское сознание не выработало теории сакрального, не прибегло к концептуальным эвфемизмам, скрывающим в себе тезис о смерти Бога, как это произошло в европейской культуре. Русское сознание в своих имманентистских тенденциях парадоксальным образом пошло по противоположному пути приближения к Богу живому. В основе попыток переосмыслить христианство здесь лежит не желание привести его в соответствие современному сознанию или конкретным нуждам социума, не желание возвысить человека, превратив Бога в промежуточный этап его становления, не стремление удалить Бога на безопасную дистанцию, чего добивается философия «теологического поворота» вместе с теологией апофатического уклона (Ранер, Тиллих и др.), не стремление сделать Его подручным, чего достигает философия сакрального, но ревность по Богу. Русское сознание в своем имманентизме обращено к конкретному в своей явленности и близости человеку Богу. Его волнует не человек, а Бог. Тотальная правда не человека, но Бога. Его волю, а не свою оно пытается постичь, сохранив живую иерархию между собой и Им. Не о низведении неба на землю, но о возведении земли на небо ревнует оно. Не человеческий путь практичной в миру Марфы избирает оно, но богочеловеческий путь вселенского преображения. Цену гордыни, преждевременного обожения и «совершеннолетия» оно платит не в угоду эмансипированному человеку, но за то, чтобы во всей предельной конкретике обнаружить неразрывную связь между человеком и Богом.
Богоревнивость обнаруживают Толстой, Федоров, богоискатели начала ХХ в. К этому списку можно причислить русских философов, прибегнувших к странным превращениям ницшеанской теории. Начиная с В. Соловьева, попытавшегося увидеть в идее сверхчеловека искаженную истину богочеловечества51, и заканчивая еретическими по отношению к христианству взглядами Л. Шестова, назвавшего Ницше и Достоевского духовными братьями, открывающими миру истину страда-ния52, и усмотревшего в реабилитации зла у Ницше объяснение смысла слов Христа в Нагорной проповеди о том, что Отец повелевает восходить солнцу над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных (Мф 5:45)53. Даже такие интеллектуальные метаморфозы все еще следует отнести к богоисканию, хотя в отношении фигуры Шестова стоит заметить, что он встал на путь подмены Бога абстракцией54. Из ряда ревностных богоискателей выбивается А. П. Чехов и подобные ему мыслители, которые, как верно заметил Д. Мережковский, работают с человеком вне проблемы Бога55. Но эта линия русской мысли, кажется, уступает столпам, объединяющимся вокруг доминанты Бога.
Список литературы Имманентизм в русской культуре
- Бердяев Н. Религия воскрешения(«Философия общего дела» Н. Ф. Федорова)//Н. Ф. Федоров: pro et contra: в 2 кн. Книга первая. СПб.: РХГИ, 2004. С. 424-468.
- Булгаков С. Религия человекобожества у Л. Фейербаха. М.: Свободная мысль, 1906.80 с.
- Булгаков С. Н. О религии Льва Толстого. М.: Путь, 1912. С. 1-9.
- Гиппиус З. Н. О бывшем // Сайт gippius.com. URL: htp://gippius.com/doc/memory/o-byvshem.html (дата обращения: 03.06.2017).
- Гиппиус З. Н. Собрание сочинений: в 15 т. М.: Русская книга, 2003. Т. 7 // Сайт Библи-отека русской и советской классики. URL: htp://ruslit.traumlibrary.net/book/gippius-ss15-07/gippius-ss15-07.html (дата обращения: 03.06.2017).
- Делез Ж. Имманентность: жизнь… // Сайт Klinamen. URL: htp://dironweb.com/klinamen/fila15.html (дата обращения: 07.11.2016).
- Делез Ж. Фрэнсис Бэкон: Логика ощущения. СПб.: Machina, 2011. 176 с.
- Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. М.: Наука, 2000. 586 с.
- Мережковский Д. С. Не мир, но меч. Харьков: Фолио; М.: АСТ, 2000. 720 с.
- Розанов В. В. Об отлучении гр. Л. Толстого от церкви//Он же. Собрание сочинений.Около церковных стен. М.: Республика, 1995. С. 478-479.
- Соловьев В. Идея сверхчеловека//Он же. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 2.С. 626-634.
- Соловьев В. Идея человечества у Августа Конта//Он же. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль,1988. Т. 2. С. 562-581.
- Тайлор Ч. Структуры закрытого мира//Логос. 2011. № 3. С. 33-55.
- Толстой Л. Н. В чем моя вера?//Он же. Полное собрание сочинений: в 90 т. М.: Худо-жественная литература, 1957. Т. 23. С. 304-467.
- Толстой Л. Н. Как читать Евангелие и в чем его сущность?//Он же. Полное собраниесочинений: в 90 т. М.: Художественная литература, 1956. Т. 39. С. 113-116.
- Толстой Л. Н. Краткое изложение Евангелия//Он же. Полное собрание сочинений:в 90 т. М.: Художественная литература, 1957. Т. 24. С. 801-938.
- Толстой Л. Н. Ответ на постановление Синода от 20-22 февраля и на полученныемною по этому поводу письма (1901)//Л. Н. Толстой: Pro et contra. СПб.: РХГИ, 2000.С. 348-355.
- Толстой Л. Н. Путь жизни. М.: Республика, 1993. 431 с.
- Трубецкой Е. Н. Спор Толстого и Соловьева о государстве//Л. Н. Толстой: Pro etcontra. СПб.: РХГИ, 2000. С. 386-400.
- Федоров Н. Ф. Сочинения. М.: Мысль, 1982. 711 с.
- Флоровский Г. Пути русского богословия//Н. Ф. Федоров: pro et contra: в 2 кн. Книгапервая. СПб.: РХГИ, 2004.
- Чехов А. П. Студент//Он же. Рассказы. М.: Астрель: АСТ, 2004. С. 235-239.
- Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ницше (Философия и проповедь)//Он же.Философия трагедии. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. С. 7-132.
- Шестов Л. Достоевский и Ницше (Философия трагедии)//Он же. Философия траге-дии. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. С. 135-316.
- Шестов Л. На весах Иова. Харьков: Фолио; М.: АСТ, 2001. 464 с