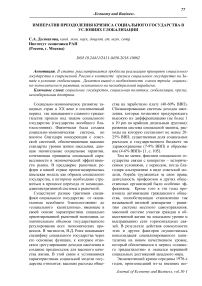Императив преодоления кризиса социального государства в условиях глобализации
Автор: Долматова С.А.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 10-1 (44), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема реализации принципов социального государства в современной России в контексте кризиса социального государства на Западе в условиях глобализации. Делается вывод о необходимости смены тренда социально-экономического развития, основанного на неолиберальной парадигме.
Социальное государство, социальная политика, глобализация, кризис, неолиберальная доктрина
Короткий адрес: https://sciup.org/170189745
IDR: 170189745 | DOI: 10.24411/2411-0450-2018-10062
Текст научной статьи Императив преодоления кризиса социального государства в условиях глобализации
Социально-экономическое развитие западных стран в ХХ веке в послевоенный период так называемого славного тридцатилетия прошло под знаком социального государства (государства всеобщего благосостояния). Фактически была создана социально-экономическая система, во многом благодаря конкуренции с советской системой, обеспечивающая высокие стандарты уровня жизни населения, дающая значительные социальные гарантии, сочетающая принципы социальной справедливости и экономической эффективности рынка. В преддверие рыночных реформ в нашей стране пропагандировалась шведская модель как образец социального государства, к которому необходимо стремиться в процессе перехода от командноадминистративной системы к рыночной.
Существуют разные трактовки специфики социального государства: от «капитализма всеобщего благосостояния» до «социального капитализма», имеющие в своей основе характеристики социально ориентированной рыночной экономики, со значительным объемом государственного регулирования всех экономических процессов. В частности, В.Д. Роик показывает специфику социального государства через его основные функции, к которым относятся «регулирование доходов населения и создание предпосылок для высокого качества жизни. В этой связи к устоявшимся характеристикам социальной модели государства относятся: высокие расходы обще- ства на заработную плату (40-60% ВВП). Сбалансированные системы доходов населения, которые позволяют предупреждать высокую их дифференциацию (не более 1 к 10 раз по крайним децильным группам); развитая система социальной защиты, расходы на которую составляют не менее 2025% ВВП; существенная доля социальных расходов в государственном бюджете на здравоохранение (7-9% ВВП) и образование (4-6% ВВП)» [1, с. 105].
Тем не менее, феномен социального государства связан с конкретно - историческими условиями, с периодом, когда благодаря альтернативе в виде советской модели, борьба трудящихся за свои права, деятельность профсоюзов и других общественных организаций были особенно эффективны. Кроме того в эти годы произошла активизация гражданского общества, способствующая становлению так называемой низовой демократии - развитию системы местного самоуправления, массовой системе участия граждан в общественной жизни на локальном уровне и выстраиванию сети горизонтальных связей. В результате действия совокупности этих и других факторов осуществилась консолидация социализированного капитализма на новом качественном уровне, который обеспечивался в период «славного тридцатилетия» и оказался вершиной социальных достижений западного мира.
Экономический кризис середины 1970-х годов, произошедший из-за внешних шо- ков, вызвал волну резкой критики социального государства сторонниками свободного рынка, обвинявших излишнее государственное администрирование в сбое самонастраивающейся рыночной системы за чрезмерное внедрение в экономику нерыночных элементов. Фактически экономический кризис стал поводом для кампании по дискредитации самой идеи государственного регулирования и кейнсианской экономической политики, по сути, сформировавшей социальное государство в период его расцвета. В то же время проблема кризиса социального государства стала одной из самых обсуждаемых как в экономическом дискурсе, так и в политических дебатах. Как отметил Р.С. Гринберг: «Инфляционные всплески в сочетании с застоем хозяйственной активности в странах зрелых рыночных экономик в середине 1970-х чуть ли не целиком стали приписывать кейнсианским рецептам управления экономикой и будто бы всегда потакающему иждивенческим инстинктам социальному государству» [2, с. 38]. Тем не менее, кризис социального государства непосредственно связан с усилением позиций неолиберальной идеологии, предлагающей рецепты выхода из рецессии за счет урезания социальных расходов при сокращении налогов на бизнес, что не могло не сказаться на изменении приоритетов общественного развития.
Что касается кризиса советской модели конца 80-х годов ХХ века, то он осложнился внешним идеологическим давлением набиравших политический вес сторонников безоговорочной власти свободного рынка. Более того, крах СССР способствовал еще и усилению роли неолиберальной идеологии, определившей направление и содержание процесса глобализации. Начало процесса глобализации, совпавшее по времени с началом рыночных преобразований, поставило постсоветскую Россию в жесткие рамки неолиберальной доктрины, условия которой были безоговорочно приняты российским руководством, несмотря на угрозу потери суверенитета, сырьевой специализации в мировой экономике и закрепления периферийного статуса.
В результате довольно значительного периода рыночного реформирования в современной России стало очевидно, что общественные ожидания построения социального государства не оправдались. Результаты системной трансформации 90-х годов ХХ века, которые сопровождались невосполнимыми социальными потерями, явно не соответствовали заявленным целям перехода к демократическому обществу. Социальная политика носила остаточный характер, причем не выполнялись задачи не только обеспечения стандартов социального государства, но и социального обеспечения на минимально приемлемом уровне.
В российском научном сообществе фактически сложился консенсус относительно декларативности конституционного положения о том, что Российская федерация является социальным государством. В то же время оценки причин нереализованно-сти статьи 7 основного закона РФ разнятся. Ряд исследователей полагает, что остаточное влияние советской модели препятствует внедрению принципов социального государства западного типа. Распространена точка зрения конечности идеи государства всеобщего благосостояния в связи с глобализацией. Существует также мнение о проблемах реализации социального государства в России в связи с его кризисом на Западе. В то же время все больше набирает оборот критический настрой относительно асоциального характера рыночного реформирования в постсоветской России в соответствии с неолиберальной доктриной, которая в принципе находится в противоречии с идеей социального государства.
Предполагалось, что при переходе к рынку наиболее жизнеспособные институты будут автоматически внедрены в российский социум. Однако положение осложнялось тем, что институты социального государства, которые предстояло импортировать, уже подверглись модификациям и были далеки от идеального состояния. Как отметила И.А. Григорьева «большинство исследователей все же едины в оценке 1990-х гг. как периода кризиса социальных государств и социальной по- литики, коснувшегося всех типов социально-экономических систем: социальных государств, постсоциалистических государств и модернизирующихся государств “третьего мира”» [3, с. 147].
Хотя существуют разные точки зрения по поводу периода начала данного кризиса, но, безусловно, к 90-м годам XX века сложилась совокупность факторов, главным образом экономических, политических, идеологических, воздействующая негативным образом на систему социального государства. Это и крах СССР, и усиление неолиберальной доктрины в качестве мейнстрима, и процесс глобализации, и повышение роли наднациональных институтов, и усиление позиций финансового капитала, и нарастание миграционных процессов, и экологические проблемы. Кроме того постиндустриальные тенденции и демографический фактор не стоит сбрасывать со счетов. Этот список кардинальных изменений, определивших положение не только системы социальных государств, но и мира в целом, можно продолжить.
По всем критериям современная Россия не соответствует модели социального государства, и тенденция по улучшению ситуации не просматривается. В первую очередь, это касается социального расслоения. Если советская система характеризовалась низким уровнем дифференциации денежных доходов, то при переходе к рынку ситуация изменилась кардинально. Как отметил А.Г. Аганбегян в 1988 году: «если взять 10% низкообеспеченных семей и 10% самых высокообеспеченных, то разница в доходе в настоящее время составит около 3 раз» [4, с. 241]. По данным Росстата, подобный разрыв в 1992 году составил уже 8 раз, в 1993 – 11,2, в 1994 – 15,1. На этом уровне Росстатом фиксируется относительная стабилизация, продолжающаяся почти 20 лет, в периоды финансовых кризисов разрыв составляет 16 и более раз [5, c. 130; 6, c. 109; 7, c. 158; 8]. В то же время эксперты свидетельствуют о еще более существенном разрыве доходов, доходящем в ряде регионов до 50 раз и более. Несмотря на то, что и данные официальной статистики, и многочисленные социологи- ческие опросы, и экспертные оценки свидетельствуют о значительной дифференциации населения по размерам доходов, накопленному богатству, доступу к общественным благам, на государственном уровне данная проблема не решается.
Характерно, что первый этап роста расслоения, связан с процессом приватизации, когда доходы от собственности стали весомым фактором усиления неравенства российского социума. В.М. Полтерович сделал важный акцент на политической составляющей процесса приватизации, которая характерна не только для нашей страны, но и для развитых стран, где политический ландшафт изменился под влиянием правых партий, когда происходило смещение от социал-демократических тенденций в политике западных стран к либеральным или неоконсервативным тенденциям. При анализе причин приватизационной волны в развитых странах в 1980–1990-х гг., он присоединяется к мнению ряда авторов о том, что она не имела и не имеет под собой ясных оснований ни в теории, ни в практике. «Решения о приватизации принимались отчасти под влиянием идеологической моды, веры в большую эффективность частной собственности по сравнению с госу-дарственной»[9, c. 32].
В постсоветской России в результате приватизации решался вопрос необратимости рыночных реформ за счет быстрой коррупционной раздачи государственных предприятий, не принесшей ощутимой выгоды ни казне, ни экономике в целом, ни российскому населению. В то же время, несмотря на произошедшие за последние двадцать пять лет радикальные изменения, проблема легитимизации собственности до сих пор далека от разрешения, что препятствует как устойчивому развитию экономики, так и способствует социальной конфронтации. Негативный социальный фон препятствует консолидации общества. Как отметил А.Ю. Шевяков: «социальноэкономическое неравенство и бедность обусловлены не отсутствием ресурсов и недостаточностью темпов экономического роста, а глубоко деформированными механизмами государственного регулирова- ния и распределения, в том числе распределения эффектов от использования и эксплуатации общественной собственности» [10, c. 131].
Абсолютизация экономического роста в борьбе с бедностью характерна для неолиберального подхода, преобладающего с начала 90-х годов XX века в нашей стране и в целом ряде западных стран. По мнению А. Волкера, «сторонники данной позиции, как и их неолиберальные предшественники утверждают, что глобальный экономического рост «поднимет все лодки в море», а в качестве дополнительного бонуса - улучшит положение и самых бедных. Доказательств данной теории в рамках национального контекста, для которого ее использовали, не существует, тем не менее, сегодня она господствует в мире» [11, с. 72]. Несмотря на то, что безоговорочное господство неолиберальной доктрины как основы экономической политики на Западе было подвергнуто сомнению после кризиса 2008 года, и лидирующие позиции в экономическом дискурсе утрачены, в России позиции экономической идеологии, определяющей направление развития в 90-е годы XX века, по-прежнему незыблемы.
Упование на экономический рост как основной фактор решения всех экономических и социальных проблем снижает значение механизма перераспределения и нивелирует социальную роль государства. Кроме того глобализация обращает экономический рост на благо ТНК, а не национальных государств. «При предоставлении в мировом хозяйстве услуг по перманентному экономическому росту экономические монополии выигрывают в процессе глобализации конкурентную борьбу за факторы производства - землю, капитал, труд» [12, с. 121]. При доминировании финансового капитала, финансовые операции замещают собой любую производственную деятельность для достижения максимальной прибыли, плодами экономического роста пользуются в первую очередь финансовые структуры. Более того, в период экономического кризиса банки и другие финансовые организации получают значительную помощь от государства. В частности в связи с кризисом 2008 года российские банки получили около трех трлн. рублей государственных средств, что является беспрецедентной мерой в стране, где не решены проблемы бедности и социального расслоения, недофинансированы социально значимые отрасли.
Отсутствие социальной направленности экономических процессов очевидно. Не случайно у чиновничества возникли проблемы с выполнением так называемых майских указов (2012 года) президента, направленных на улучшение уровня и качества жизни населения. Многие эксперты отмечают, что их выполнение осуществляется только на бумаге. С помощью статистических ухищрений вырабатываются средние показатели и подгоняются под заданные в указах цифры. Как отметил В.В. Путин: «Надо признать, что федеральные министерства и ведомства подчас сами фактически вынуждают субъекты Федерации прибегать к разного рода манипуляциям с текущими и контрольными показателями»[ 13].
Тем не менее, сохраняются общественные ожидания поворота к социальному государству в связи с майским президентским указом (2018 года), в котором В.В.Путин поставил в числе ряда задач по развитию экономики до 2024 года и задачи по развитию человеческого потенциала, в первую очередь, задачу снижения в два раза уровня бедности [14]. В то же время негативный опыт в связи с реализацией майских указов (2012 года) свидетельствует о возможных проблемах при реализации и данного указа. Серьезные социальные опасения вызывает и пенсионная реформа. В условиях современной России повышение возраста выхода на пенсию без системных изменений свидетельствует о превалировании фискальной составляющей в данной реформе, которая не учитывает в полной мере ее последствия, как для рынка труда, так и для такой категории как «работающие бедные», не говоря уже о конфискационном характере данных мероприятий для специально выделенной категории предпенсионеров. Ссылки на повышение возраста выхода на пенсию в западных странах, в период нового витка кризиса социального государства, в стране, претендующей на самостоятельный путь развития в условиях глобализации, несмотря на западные санкции, представляются не вполне логичными.
Таким образом, использование примеров кризисного состояния западного социума для обоснования проводимой социальной политики не приближает современную Россию к статусу лидирующих держав на мировой арене. Для преодоле- ния кризиса социального государства в нашей стране, вызванного некритическим использованием неолиберальной парадигмы развития, необходимо обратиться к опыту высших достижений социального государства докризисного периода. Тем не менее, запрос общества на справедливое демократическое устройство остается чрезвычайно востребованным. Усиление кризисных явлений в отечественной экономике на фоне роста неопределенности в мировой экономике и расширения геополитических угроз в современной России провоцирует угрозу социальных потрясений. Этим объясняется особая значимость императива реализации принципов соци- ального государства, которые дают на правление для смены тренда социально экономического развития, осознание необ ходимости которого нарастает в обществе.
Список литературы Императив преодоления кризиса социального государства в условиях глобализации
- Роик В.Д.Социальное государство: от декларации к реальному построению // Россия: путь к социальному государству. - М.: Научный эксперт, 2008.
- Гринберг Р.С. Свобода и справедливость должны не исключать, а дополнять, друг друга / Неравенство доходов и экономический рост: стратегии выхода из кризиса. Под ред. А.В. Бузгалина, Р. Трауб-Мерца, М.И. Воейкова. - М., 2014.
- Григорьева И. А. Развитие теоретических подходов к социальной политике в 1990-2000-х годах // Общественные науки и современность. 2012. №3.
- Аганбегян А.Г. Советская экономика - взгляд в будущее. - М., 1988.
- Социальное положение и уровень жизни населения России. - М., 2001.